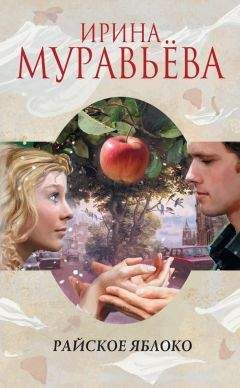Каково же было удивление запыхавшегося Саши, когда он увидел еще даже с улицы, что на лавочке близко друг к другу сидят, как две птицы, знакомые женщины: жена его Лиза и Зоя, любовница. Сидели они просто как изваяние – настолько спокойной, усталой и кроткой была их застывшая поза. Ни та, ни другая уйти не стремились, друг другу на лица почти не смотрели, но что-то в них было такое прекрасное, такое достойное, несуетливое, что Саша практически оторопел. Потом Зоя Лизу о чем-то спросила, и та, бедняжка, вся вспыхнула сразу. И снова они замолчали. И снова застыли в той несколько странной, однако красивой и женственной позе, которая их словно бы приковала не только друг к другу, но к этому снегу, и к лавочке этой, и к липам печальным, и все это вместе открылось прохожим картиной их общей, отнюдь не простой, безотрадной судьбы.
Саша дорого отдал бы, чтобы узнать, о чем был у них разговор, с чего это вдруг так вся вспыхнула Лиза, а Зоя прикрыла перчаткой глаза. Ему пришло в голову, что эти женщины сейчас собрались на заснеженной лавочке, решая, кому он достанется. Господи! Он чуть не заплакал: пускай они обе откажутся, обе! А он пусть достанется голубоглазой хорошенькой Эльве. Вот было бы славно.
«Прошло мое время! – подумал он горько. – А я ничего не ценил так, как нужно».
Он вспомнил вдруг прежние, чудные годы, себя, молодого, кудрявого, легкого, которому просто бросались на шею, но он был женат на красивенькой женщине с улыбкой почти что как у Лолобриджиды, и как он, гордясь красотой этой женщины, почти ничего себе не позволял – лишь изредка пару невинных интрижек, – и как он ее утешал, эту женщину, которая очень хотела ребенка, но что-то все не получалось, и ночью, раз в месяц, ему, ее мужу, всегда приходилось ее утешать. Она заливалась слезами, шептала:
– Опять началось. Да не трогай меня!
Она все искала врачей, все лечилась, врачи назначали ей кучу проверок, и хапали деньги в почтовых конвертах, рекомендовали то воды, то соли, пока наконец кто-то, самый дотошный, сказал, что провериться следует мужу. А что ему было ходить проверяться, раз Зоя, которая вдруг овдовела, уже была с ним, и они, обезумев, любили друг друга так неукротимо, что Зоя в конце концов и залетела, и он, удрученный, отвез ее в клинику и сам сунул деньги в конверте большому и белому, как Дед Мороз, главврачу.
До сих пор ему было неловко вспоминать, как он шел на прием к урологу, и Лиза, еще ничего тогда не знавшая о Зое, вызвалась его проводить, и на душе у него было муторно, как будто бы он отравился в буфете какой-то несвежей и жирной едой. Теперь, когда он вспоминал, как они бежали по улице, и на сугробах качались узоры седых фонарей, и люди вокруг торопливо тащили продукты и елки, и дети катались на санках с горы, – теперь, когда он вспоминал это все: блестящие Лизины брови, и губы, и запах смолы и хвои, пропитавший морозный синеющий воздух, и их молодой, быстрый шаг, и то, как он мучился тем, что не может сказать бедной Зое хоть слово, а Зоя сидит, ждет звонка, – теперь все, что в этот морозный, чудесный, сияющий вечер казалось ему большой неприятностью и огорчением, таким обдавало немыслимым счастьем, таким просто скулы сводящим восторгом, что он проклинал свои прежние годы, когда он совсем ничего не ценил.
Он словно бы напрочь забыл, что с того морозного вечера, с давнего снега прошло двадцать лет. И в каждой из женщин за все эти годы как будто бы выросло некое дерево, которое не увядало зимою, весной не цвело и не плодоносило, когда наступала богатая осень. И каждая женщина прятала в дупла, которых в нем было великое множество, все то, что скрывала не только от ближних, не только от дальних, но и от себя. А дерево все принимало и, ставши большим, неподвижным и твердым, как камень, давило на ребра, желудок и сердце, но не прорастало сквозь тонкую кожу.
Теперь же, увидев сидящих – жену свою, Лизу, и Зою, любовницу, – он вдруг испугался. Они подводили итог его жизни, они упраздняли опасное счастье, и терпкость, и свежесть, к которым он, Саша, успел так привыкнуть за долгое время.
Лица обеих были неярко, но выгодно освещены теперь уже редким и мелким снежком, который нисколько их не беспокоил. Одеты они были обе небрежно. Жена была в темном пальто и беретике, а Зоя в какой-то почти детской курточке.
Глава двенадцатая
Ненависть
Марина не положила письмо обратно в ящик с нижним бельем, а, зажав его в руке, подошла к постели Ноны Георгиевны. Она сама почувствовала, как зрачки ее запульсировали внутри глаз и голова заболела. Прикрытый до пояса, крошечный, детский, лежал неподвижный скелет ее матери, стремившейся приподнять левую руку.
– Какая же ты… – прошептала Марина, застыв над скелетом.
И вдруг ее словно бы что-то ударило.
– А если ты все наврала? Что тогда? Не знаю зачем, но могла ведь наврать. Ах, знаю зачем! Знаю, знаю! Наверное, подумала: вдруг и Агата сама заболеет? И кто тогда будет за вами ходить? Кто будет горшки выносить? И придумала!
Она наклонилась и поднесла исписанные крепким почерком страницы к самому лицу Ноны Георгиевны.
– Живо-о-о, – замычала больная. – Смо-о-от на живо-о-о…
Она говорила «смотри на живот».
– Живот заболел? – усмехнулась Марина. – Придется терпеть.
Нона Георгиевна умоляюще и сердито, как тогда, когда Марина не понимала, что нужно выдвинуть нижний ящик комода и достать письмо, взглянула на нее.
– Смо-о-о-т на…
Марина откинула одеяло. После вечернего мытья на Нону Георгиевну всегда надевали длинную и теплую ночную рубашку. Марина приподняла ее. Перед ней были тощие, с выступающими коленями ноги и впалый, слегка желтоватый живот. Прежде, купая и переодевая Нону Георгиевну, она не обращала особого внимания на длинный уродливый шов, который делил этот тощий живот на две половины. Теперь поняла. Ведь это ее, всю в крови и кудрявую, тащили оттуда на восемь недель прежде срока! Ее! А мать торопилась уехать в Италию. И словно бы мстя за ее торопливость, шов начал гноиться. Его промывали, его присыпали лекарством, вставляли тампоны из ваты во все его дыры, а он все кровил и гноился, и мстил ей. И все не давал ей уехать, сбежать, как будто рассудку противилось тело.
Нона Георгиевна закрыла глаза. Выражение скучающей надменности, которое отличало ее до болезни, вернулось на это лицо с птичьим носом и плотным, с припухшею верхней губой и нежным пушком над ней, ртом. Марина услышала, как она ровно и неторопливо дышала во сне.
Не только сострадания или жалости не осталось в ней по отношению к этой женщине, но вдруг всю ее охватила брезгливость и что-то такое, чему нет названья. Не ненависть, нет. И не злоба, нет. Ужас, что с этим придется ей жить. А как жить?
– Нельзя, нельзя, детка, – шепнул мамин голос. – Нельзя, моя радость…
Марину колотила крупная, отвратительная дрожь. Хотелось сейчас одного – одеться и выйти на улицу, чтобы уже никогда не вернуться обратно.
В дверь позвонили. Она с облегчением выскочила из спальни.
На пороге стоял режиссер Зверев.
– Зачем ты, любовь моя, трубочку бросила? – спросил ее пьяный растерзанный фавн. – Я этого не люблю. Армянская девушка – вежливая девушка, она в платье купается, а ты обрусела, испортилась. Трубки бросаешь. В Армению надо обратно, а то совсем будешь злая, как русская девушка.
Он вошел и так крепко и надолго прижался губами к ее губами, что, когда оторвался наконец, Марина почувствовала, что теперь и от нее пахнет спиртным.
– Отсюда уже никуда… – сказал он. – Мне нужен покой, тишина, а не этот… пятнадцатый век… Я женюсь на тебе. Пойдешь за меня? Вот хоть завтра. Пойдешь?
– Ты пьян, – прошептала Марина.
– А что, только трезвые женятся?
– Зачем ты приехал?
– А то ты не знаешь! Маришка, спасай. Я, похоже, не это… Вчера прилетел и вдруг, знаешь, запил. И спать не могу.
– Ты к этой литовке летал?
– Тебе что, уже донесли?
– Да ты ведь сказал. Ты же мне позвонил!
– Да, я позвонил. Ну и что? А, неважно! Пусти, я пройду. Меня что-то ноги сегодня не держат.
Он сбросил на пол заснеженную дубленку, варежки, шарф, протопал в большую комнату и развалился на диване.
– Давай с тобой чай пить. Спокойно, семейно… А есть что покрепче?
Поколебавшись, она вынула из буфета и поставила на стол бутылку коньяка.
– Голодный? Покушаешь?
Он захохотал.
– Смотри, только не говори слова «есть»! Всегда говори только «кушать». Ты мягонько так говоришь, шепелявенько «кущ-щ-шять». Приду вот со съемок домой, будем «кущ-щ-щать»!
Марина молчала. Из комнаты Ноны Георгиевны не доносилось ни звука. Зверев налил полную рюмку и выпил залпом.
– А, вот есть и сыр. Вот сыром закусим. – Он отрезал кусок брынзы, положил в рот и выплюнул тут же на блюдце. – Нет, кисло. Коньяк забивает. Дай хлебца простого. А впрочем, и хлебца не нужно. Сама подойди.
Марина подошла. Зверев резко притянул ее к себе.