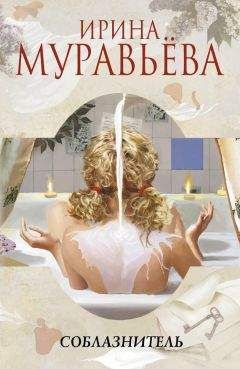Себе он сказал, что он любит ее. Но, в сущности, слово ведь мало что значит. И как, например, человеку удобнее использовать ложку, когда он ест суп, хотя и без ложки нашел бы он способ расправиться с супом, так вот и ему удобнее было сказать, что он любит, когда он держал ее в этой постели, ласкал ее грудь, и кусал ее губы, и не отпускал до тех пор, пока сам не чувствовал, что почти спит, засыпает.
Дойдя до метро, Вера сразу звонила:
– Ты любишь меня?
– Да. Конечно, люблю.
– Тогда почему ты мне сам не звонишь?
И голос ее становился стеклянным от этих готовых заранее слез.
Ему уже очень хотелось работать. Уже набегали какие-то строчки, но, если он сразу же не говорил, что думал о ней, что он любит ее, что как доживет до утра, сам не знает, она ведь могла бы и не отпустить, она, с ее цепкостью и подозреньями, могла бы звонить и звонить до тех пор, пока он не скажет того, что ей нужно.
И он говорил, чтобы вновь стать свободным. Опять появлялись покойники: мать, и пьяница-отчим, и папа-философ, который мог, кстати сказать, быть живым. Но только вот где? Проще было считать, что он тоже мертв. Потом приходила она, сама Вера. Она пролезала сквозь узкую щель и вдруг занимала собой все пространство. Могла не сквозь щель, могла просто в окно, разбив в нем стекло и порезав все пальцы. Он чувствовал вкус ее крови и запах, как только что чувствовал вкус ее губ и запах ее ярко-желтых волос, пока они вместе валялись в постели. И он начал путать: где текст, а где жизнь.
В жизни Вера Переслени приносила ему не одни только радости. Впрочем, и это слово так же не подходило, как и все слова, которыми он пользовался в разговоре с нею: «любимая», «радость», «люблю». Не радость была, было что-то другое. Была словно очень короткая смерть и следом за этим – испуг, что однажды он и не очнется. Она зажимала ладонями рот. Сначала себе, а потом и ему.
Ей очень хотелось заставить его себя ревновать. Однажды он приревновал, и она была в самом глупом и детском восторге. Сценарий она сочинила сама: сказала, что тащит тяжелые книги и просит, чтобы Бородин ее встретил. Он бросил работу и вышел встречать. Увидел, что Вера идет не одна. С ней рядом, вспотевший от этой жары, кудлатый какой-то, шел парень в наколках. Конечно, она познакомилась с ним, пока сюда ехала. Он разозлился. До самого дома шел сзади, пытаясь расслышать весь их разговор, но она смеялась так громко, что это мешало.
Дойдя до ступенек, она протянула кудлатому руку. Кудлатый опешил. Тогда Бородин, обогнув их обоих, открыл дверь, вошел и уже из подъезда втащил ее внутрь. Пока ждали лифта, она все смеялась, хотя на лице был испуг. Он молчал.
– Ну, что ты молчишь? – прошептала она.
Ему захотелось ее придушить. Потом он вдруг вспомнил: она же ребенок. Избалованный, раздраженный ребенок, который растет у него на глазах.
«… Я говорил себе, что эта страсть – плод моей фантазии, моего длительного уединения и отсутствия настоящих привязанностей. Она заняла в моей жизни место, которое не было предназначено ей, а должно было быть занято матерью и отцом. В крайнем случае человеком, заменившим мне моего родного отца, которого я не видел никогда в жизни. Смерть матери я помню так ясно, как будто это случилось вчера. Мать варила кофе в турке. Она любила очень крепкий кофе, и даже когда у нас совсем не было денег, одалживала у соседей, чтобы купить хотя бы сто-двести грамм кофейных зерен.
«Кофе должен быть черным, как ад, крепким, как смерть, и сладким, как любовь», – говорила она. Я запомнил, как появились первые сердитые пузырьки на гладкой черной поверхности, и вдруг мать упала. С тех пор я ни разу не выпил ни одного глотка кофе. Мне кажется, что не вари она кофе – она бы жила до сих пор».
Кусок получился хорошим, но он еще не придумал, куда его вставить.
Елена с Васенькой и генеральшей проводили лето на даче. Бородин приехал всего один раз, второго июня, а потом как в воду канул. Звонил, извинялся. Поскольку всегда ненавидел вранье, то и извинялся без объяснений.
– Прости, собираюсь приехать. Но только попозже. Сейчас не могу.
И врать приходилось Елене.
– Болеет. Сказал, что ангина.
– Да хоть бы совсем провалился! Нам что? – шептала в сердцах генеральша. – Ребенка вот жалко, ребенок извелся!
Васенька и в самом деле переживала, что он не появляется. Однажды, уже засыпая, сказала:
– А папа меня разлюбил.
Елена чуть не разрыдалась:
– Ты что! Он просто болеет.
– Я знаю, – серьезно и тихо ответила Васенька, – он, может быть, даже умрет. Жалко папу.
– С чего ты взяла? Все болеют ангиной.
– А он не ангиной, наверное, болеет.
– Откуда ты знаешь?
– Я видела сон, – и Васенька села в кровати. – Сначала я думала, что не скажу. Но, мамочка, я не могу не сказать. А вдруг он мне снова приснится?
– Кто? Сон?
– Нет, папа на черных ногах.
Кровь бросилась в голову так, что Елена закрыла глаза.
– Не спи, мама, правда – на черных.
– Каких ногах, Вася? Ты что говоришь?
– После того, как папа тогда приехал, – дрожащими губами заговорила Васенька, – и мы так играли с ним. Так хорошо! Ты дома была, а мы с ним забрели на старое озеро. Знаешь? С кувшинками. И папа нашел там дырявую лодку. Не очень дырявую, правда, но все-таки. Она, к сожалению, даже без весел. И мы в нее сели.
– В дырявую?
– Мама! Но там везде дно. Там, если захочешь, и то не потонешь.
– А дальше? – спросила Елена.
– И папа штанину свою закатал и просто ногой оттолкнулся. Но там же болото, не очень ведь озеро. Нога стала черной-пречерной. А он засмеялся. Сказал, что все жители Африки – черные. И если их всех окунуть в молоко, в кефир и сметану и там подержать, никто из них не побелеет. Потом мы лежали на дне этой лодки, и папа рассказывал мне…
– Что рассказывал?
– Сначала про Африку. Так интересно. Потом он сказал: «Хочешь сказку? Она называется «Wonderful Land».
Васеньку с раннего детства учили английскому. В обучении Бородин проявил несвойственную ему строгость, и надо признать, что добился успеха: в свои восемь лет она говорила легко и свободно на этом чужом языке.
– Он что, по-английски с тобой говорил?
– Да. Сказку он мне рассказал по-английски. Но очень простыми словами, я все поняла.
– Ты мне расскажи про свой сон, хорошо? – тихонько сказала Елена.
– Про сон? Я сейчас расскажу. Вот мы с ним сидели на этой вот лодке, и он мне рассказывал сказку… И было… Ты, мама, пойми. Было так хорошо! Он не приезжает сейчас, а я помню.
Она не плакала, даже не всхлипывала. Больнее всего было видеть, как она прижимает к груди свои маленькие руки, – к коротенькой, синей в горошек пижамке она изо всех своих сил прижимала горячие, плотно сплетенные пальчики, – и смотрела не на Елену, а куда-то вверх, сквозь потолок, построенный из больших сосновых бревен с уцелевшими на них каплями сизо-желтой смолы. Новая, никогда прежде не испытанная ею ненависть к мужу подступила к горлу Елены.
«Я позвоню ему сама, – с яростью подумала она. – И я все скажу. Я скажу: «Как же ты…»
Она не успела придумать, что скажет.
– Мама! – прошептала Васенька, – ты только не говори папе, что я тебе пожаловалась. Я ведь просто рассказываю, что нам было очень тогда хорошо, в этой лодке. А сон был такой неприятный! Я даже боюсь спать ложиться.
– Так что тебе снилось?
– Я тебе сказала, что когда папа опустил ногу в это болото, то вся нога у него стала черной. И мне это так и приснилось: что все мы куда-то идем. Ты, папа и я. И он говорит: «Land of India»! А мне так становится сразу смешно, и я еще думаю: «Как это Индия? Откуда здесь Индия?» А там, где мы шли, очень много цветов и всяких деревьев, но странных каких-то, как будто и вправду мы в Индии. И папа сказал мне: «Давай я тебя понесу, ты устала». И он закатал свои брюки почти до колен. И я вдруг увидела черные палки. Не папины ноги, а палки! Так страшно.
– Забудь, моя доченька! – Елена зажмурилась. – Это ведь сон, во сне много глупостей снится, забудь. А папа приедет совсем-совсем скоро. Мы завтра ему позвоним, и ты его спросишь, как он себя чувствует.
Она легла рядом с Васенькой и крепко обняла ее. Васенька заснула почти сразу, но горькое и одновременно терпеливое выражение на ее детском лице испугало Елену больше, чем даже нелепый ее, странный сон, почти повторивший все то, что Елене приснилось самой зимней ночью, в больнице.
В Дырявине произошло неожиданное событие: скончалась их местная ведьма, исчадие ада Валерия Курочкина. Дырявинцы, люди доверчивые и простодушные, были до последней минуты уверены, что Курочкина никогда не умрет. И поэтому, когда в поисках пропавшей своей черной кошки одна из дырявинских жительниц по имени Клавдия забрела ранним утром в низину, где и располагался покосившийся и неприбранный дом Курочкиной, она чуть не упала в обморок, увидев умершую. Тут я, однако, сделаю шаг в сторону и предоставлю слово самой этой честной, отзывчивой Клавдии.