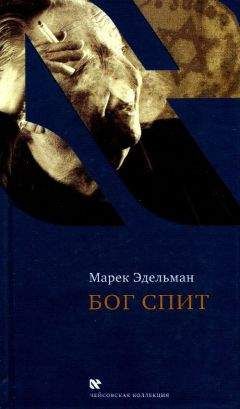Да еще рыбак один из Калуги проводил на том берегу двухнедельный отпуск. Явился к Соломину на огонек, рассказал, что на самом деле Оки существует две – одна подземная, другая наземная, обычная, всем видимая. И что подземная Ока в три раза полноводней. Если глубоко на Святых горах спуститься в бывшие каменоломни, обнаружится подземное озеро, которое имеет сообщение с рекой. А если вдруг разлом какой карстовый в пойме образуется, то вся Ока может в него сгинуть. И, скорее всего, именно это сейчас и происходит, потому что год от года река мелеет, будто кто-то присосался к ней и пьет под землей. Владимир, так звали рыбака, ловил голавля особенным способом, Соломину интересно было смотреть. Владимир бросал горсти еще зеленого овса в реку и тут же взбегал на высокий берег, шел по течению, примечая в бинокль, где на масляной от солнца реке ударит по овсу рыба, – и тогда бросался с удочкой вниз, к этому месту.
Еще к Соломину захаживал деревенский дурачок Вася Цветастый. Добрая душа, он шатался по лесу, побирался по дачам, собаки его знали и гоняли, а он их боялся и неустанной пулей летел прочь. Прозвище он получил потому, что подшивал к одежде цветные лоскутики. Ходил пушистым стеганым чучелом и приставал к каждому: «Дай тряпочку!» Соломин заготавливал для него лоскутки и не стеснялся его спроваживать: «Иди, Вася, к Богу, иди, милый».
Но больше всего Соломин любил, когда к нему приходил Матвеев, древний дед, бывший пограничник. Одиночеству он предпочитал рыбалку и являлся к Соломину не лясы точить, а по делу: лишившись недавно двух пальцев, Матвеев испытывал трудности с привязыванием крючков и ремонтом снастей. Намучившись на плесе, он наконец снимался с якоря и выгребал к Соломину. Раза два оставался ночевать, и Соломину довелось выслушать его историю.
– Старуха моя как бутылку у меня увидит, так дьявол ей в ножки кланяется. Кляла меня на чем свет стоит. Аж за нее неудобно. Я военный, она учительница, а сейчас старость и нищета одолели обоих. Под Рождество я на нее обиделся, ушел в лес, сел на пенек, и ноги отнялись. Хотя и выпил-то всего ничего, черноплодки пузырек, да, видать, понизилось давление, ослаб; черноплодка – она в том и коварна, что сам вроде трезвый, а с ног валит. Сижу на пеньке, снег сыплет, тихо, хорошо, а встать не могу. Тогда взял я и заснул. А старуха моя дома злится. И соседям сказать боится – стыдно, и дочери не позвонить – та живет в Москве и незачем беспокоить понапрасну. А я тем временем проснулся, ресницы смерзлись, разлепил, но встать всё равно не могу. Мороз набирает силу, обещали за двадцать, утром передавали. Это я помнил. А еще почему-то вспоминаю, как служил в горах, как прошел диверсант, как была объявлена тревога в погранзоне. Диверсант этот имел азиатские черты лица, он появлялся там и тут, и никто его не мог поймать, потому что он, как говорили, обладал гипнотизерскими способностями; даже фоторобот очевидцы едва сумели составить. Так диверсант этот и ушел непойманным, как вьюн из пальцев, за ним только систему тревоги пришлось чинить. Очень тогда попало всему офицерскому составу двух застав. И вот видится мне в лесу, будто этот диверсант теперь стоит передо мной и улыбается. Мать честная! Вдруг диверсант этот исчез, а за ним вот так на морозе – снег подсвечивает и всё видно, как при луне, – баба голая стоит. Вот те крест! Красивая, груди, бедра, а талия – ладонями всю обхватишь. И вдруг, глядя на бабу эту, мне жить захотелось. До этого мне было всё равно. А тут вдруг как приспичило. Заволновался, потянулся встать. И рухнул. Обратно на пенек не залезть – ноги не держат, руки еле-еле выпрямить могу. И вот я лежу и вспоминаю, как пришел на обед домой и после обеда лег с женою. А было это, как раз когда искали повсюду того диверсанта. И вот лежим мы тихо-тихо; воздух только шевелит тюль, за окном зной полуденный – и вдруг жена мне пальцем показывает на пол, а я гляжу – на полу тень человека, мужской силуэт. Я сразу понял, что это диверсант. Кому бы еще понадобилось пробираться к нам во двор незамеченным. Я ей рот ладонью зажал, а сам потянулся к кобуре. Но тут кровать скрипнула, и кто-то спрыгнул с веранды на гравий; я только успел выскочить, как он уж через забор перелетел. Велел жене никому не говорить и после этого случая завел собаку. Вспомнил я тот случай и потихоньку перевернулся и пополз на руках и коленях. Зачем? Сам не знаю. А в это время старуха моя пошла меня искать. Зашла в лес, покричала меня, позвала, да и села тоже на бревно, потому что решила: «Тогда и я с ним замерзну. Я прогнала его, я не нашла его, я его заморозила, вместе с ним я и уйду». А я все-таки выполз на дорогу. Водитель на «газели» едет, смотрит, а на дороге человек стоит на карачках – я самый. Николай его звали, водителя-то. Из Калуги ехал к бабе своей в гости в Ферзиково. Погрузил он меня и отвез в Весьегожск к твоим докторам в больницу. Оклемался кое-как, но два пальца раздуло и почернели. Доктор, с родинкой на щеке, через неделю мне их и обрезал. А то, говорит, дед, помрешь совсем. Старуха так и не пришла ко мне в больницу. Дочке сообщили, та приехала и говорит: матери нет нигде. Я из больницы вышел, сам нашел ее. Сидела под деревом, вся заиндевела. Синица сидела у нее на носу, бочком, клевала ей глаз. С тех пор один живу. Хочу одного только: лечь с женой. Соседи обещали похоронить.
– И я вам обещаю, – сказал Соломин.
– Присмотри, – кивнул старик, дрожащими обрубками подбирая из кострища головешку, чтобы прикурить.
Но чаще Соломин сидел над рекой в одиночку. Он думал о том, что вот он рос, рос и вырос похожим на ребенка – с немужественным телосложением, с добрым пухлым лицом и нестрогим доверчивым выражением. За всю жизнь он нарисовал одну серьезную, хотя и примитивистскую картину: рослая женщина стоит у комода, и к ногам ее жмется голенький младенец, такой же щекастый, как и автор. Эту картину Соломин дорабатывал на протяжении последних пятнадцати лет. Мог часами выписывать ручку на ящике комода, циферблат часов с маятником, прорисовывать стопку выглаженного белья, ноготки младенца, распущенные волосы матери…
На рассвете в полном безветрии после ночной грозы над кронами деревьев встали столбы пара и – там, тут и здесь – двинулись над лесом. В то утро Соломин отправился далеко в лес. Раньше в вылазках за дровами, по грибы он старался не увлекаться, держа на примете флаг, поднятый Капелкиным над стоянкой, но в тот раз, не столько соскучившись рекой, сколько ради расширения кругозора, Соломин решил хорошенько оглядеться на верхних ярусах древней речной поймы. Он поднялся зигзагами по уступам и к полудню вышел лесом на край поля. За луговиной виднелись крыши деревни Страхово, о названии которой он судил по карте. Дальше идти не решился, но, устав на подъеме, возвращаться не спешил.
Раскрывшийся во весь горизонт вид останавливал дыхание. То восходящий, то ниспадающий во всю ширь раскатистый пейзаж, чуть плывя в солнечной мути, закруглялся под ногами, как будто бы Соломин выбрался на фокусную поверхность широкоугольного объектива. Позади и справа лес, уходя верхушками деревьев под ноги, круто спускался по перепадам к реке. Самой реки видно не было, но излучина ее угадывалась по углу раствора возносящихся на том берегу заливных террас; они перемежались сизыми перелесками вдали. Слева и впереди веером раскрывалась череда березовых рощ; складываясь, она переходила в чащобу, теснившую деревню на близком горизонте.
Лик ландшафта, его чаши, наполненной полднем, лишил Соломина душевного равновесия; он пожалел, что не взял с собой этюдник. Хотелось разбежаться и, оттолкнувшись, взмыть по пластам восходящих потоков над этой распахнутостью, обмереть от покачивающегося под крылом простора, слыша только секущий шорох ветра и звонкий трепет ткани…
Соломин завалился в траву. Он лежал, и ему казалось, что земля потихоньку проваливается, унося его еще глубже – под атмосферный столб. Перевернув бинокль, он рассматривал кузнечиков, брызгавших с травинки на травинку, свои ступни, будто по рельсам в обратной перспективе отлетевшие на край поля…
Солнце вкатилось в лузу зенита и замерло. Сенной дух обволакивал духотою, утягивал в сон – незаметно, будто вор лодку с причала. Соломин заснул с открытыми глазами, и солнечная синкопа, обжав ему голову, безопасно потащила, помчала куда-то по воздушным кочкам.
Вдруг он услышал странный, скачущий звук, будто кто-то быстро косил траву, стремительно приближаясь.
Соломин прижался ухом к земле и тут же вскочил.
Солнечное поле, качнувшись, снова расстелилось перед ним. Громадная тишина, мерцавшая волнами стрекота, переливами птиц, трепетом их перелетов, царила над пестреющей от обилия цветов луговиной.
В этой тишине со стороны деревни на него неслась прыжками собака. Уши ее были прижаты азартом злобы.
Соломин упал ничком. Толстые лапы ударили его по спине, шершаво заерзали – и горячее дыхание впилось в затылок.