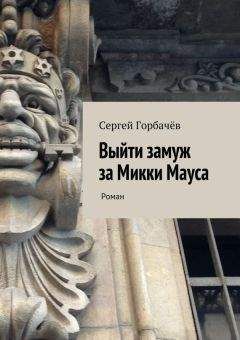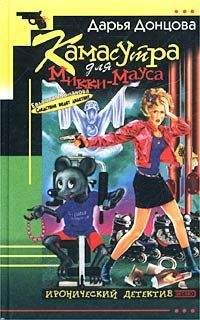До источника дорога освещалась уличными фонарями, а дальше они свернули в сторону мостика и, перешагнув через цепь с жестяной табличкой «Внимание! Проход воспрещён, идут строительные работы», перешли на остров и упёрлись в закрытые на висячий замок ворота стройплощадки. Миха подсветил фонариком пока Злата возилась с замком, затем открыл створку ворот и они прошли внутрь. Стояла полная луна, да и фонари у родника светили не так далеко, оттого остров был вполне сносно освещён. Во всяком случае, хорошо была видна симметричная россыпь чёрно-жёлтых холмиков, поделивших всю его поверхность словно на шахматные квадраты.
– Как будто нашествие кротов на острове, – заметил Миха.
Он присел возле ближайшей дырки, посветил в неё фонариком и запустил руку в холмик извлечённой при бурении породы. Тёплая ещё чёрно-серая земля, давно пересохшая на солнцепёке, сыпалась сквозь пальцы, оставляя в жмене бело-жёлтые крупинки измельчённого ракушечника.
– Мишка, к ивам пойдём, – позвала Злата.
А когда они дошли, показала:
– Вот здесь.
Треугольник из старых ив в самой высокой точке, венчал остров. И под каждым из деревьев стояло перевёрнутое верх дном строительное ведро, которым Златка предусмотрительно закрыла свои находки.
Они отодвинули ближайшее ведро, и присели на корточки рядом с аккуратной пятисантиметровой дыркой в земле. Миха стал светить внутрь, пытаясь хоть что-то разглядеть в глубине.
– Не видно ничего… – так огорчённо произнёс он, что Златка рассмеялась.
– А ты что думал увидеть? Золото-брильянты, небось?
– Да, не отказался бы, – хмыкнул Миха и полез в карман за рулеткой, которую прихватил с собой из дома.
– Сто сорок семь, – упреждающе сказала Злата и на его немой вопрос пояснила: – Здесь глубина один метр сорок семь сантиметров, я уже меряла.
Миха склонился к самой земле ухом, пытаясь на слух определить, во что бьётся конец рулетки, который он опустил на дно дырки.
– Непонятно… Вроде, как о камень царапает…
Затем покидал в дырку камешки, ничего на слух так и не понял, и перемерил необычные шурфы под каждым деревом, а затем, на всякий случай, и все близлежащие дырки, но аномально глубокими были только три отверстия у ив.
– Слушай, так выходит, действительно, пометили этими деревьями схрон? Помнишь, Сергеев рассказывал, что никакие новые деревья на острове не приживаются, только эти.
– Вряд ли, Миша, разве ивы столько растут? Двести тридцать пять лет всё-таки прошло. А что другие погибают, это-то теперь понятно, камень совсем близко, слой почвы тонкий, не все деревья такое любят… Хотя заманчиво, конечно, думать, что эти ивы на месте пустот не случайное совпадение, а, например, поросль тех деревьев, которыми когда-то тайник пометили.
– Да что тут думать, так всё и было, – загорелся Миха. – Завтра копать начнём?
– А Сергеева не боишься? – усмехнулась Злата.
– А чего мне его бояться?
– Ну как чего… Врага наживём, деревья-то валить придётся. Не жалко?
– Ты что, обалдела?! – изумился Миха. – Тут тонна золота под ногами! Какое может быть «жалко»?!
– А мне вот жалко, – неожиданно ответила Златка. – Причём, всех сразу… И деревья, и Сергеева, и нас с тобой… Я вот полдня сегодня думаю, как мы с тобой переживём всё это, а?
Часть 2.
Монастырская свеча
«Каменные лица Ростова»
* * *
Оганесов совершенно не кривил душой и, как ни странно, даже не преувеличивал, когда говорил, что «Монастырская свеча» – уникальный проект, аналогов которому нет на Юге России. Привнести качество luxury в модернистскую архитектуру не так просто. Ну, это почти как революционный берет Че Гевары украсить кристаллами Сваровски: и вроде, совершенно не сложно, и в то же время, совершенно бессмысленно. Вот и архитектура современного модернизма долго не подпускала luxury из-за своего масштаба. Трудно было получать удовольствие от контакта с модернизмом на близком расстоянии, давил он обывателя. А всё потому, утверждали архитектурные критики, что пафос модернизма – он про социальный проект, а не про элитарность и богатство. И только к середине тучных двухтысячных годов до России дошло то редкое для архитектуры явление, когда авангардная фактура естественным образом демонстрирует, что и она вполне может стать роскошью.
Всего два московских архитектора научились достойно переводить модернизм, не опошляя канон, в поле роскоши, это Ригорян и Куратов. Оба, как ни крути, бутиковые архитекторы: делали не больше одного проекта в год – слишком мало клиентов, способных потянуть такое. Но Оганесов, вернее, акционеры «К-Ванта», вполне могли себе это позволить. И хотя Ригорян ранее уже работал в Москве с «К-Вантом», но от проектирования «Монастырской свечи» сразу отказался. Не из религиозных предубеждений – был архитектор Ригорян прожжённым космополитом – но что-то такое всё же шевельнулось в его обрусевшей армянской душе и заставило ответить отказом на выгодный заказ. А вот Куратов не отказался. Уже заканчивалось строительство его знаменитой закрученной высотки на Ленфильмовской улице. Был он свободен и очень даже рад среднему по московским меркам заказу, это ведь в Москве только гигантоманией поразить можно, а в небалованной провинции легко один раз и навсегда в историю войти, пусть и не глобальным, но продуманным проектом.
Тем более, что название – «Монастырская свеча» – так идеально сочеталось с винтообразной, скручивающейся конструкцией небоскрёба, когда-то придуманной Куратовым для Москвы. Но в столице сложно создавать комплекс зданий как безупречную скульптуру, где равные значения имеют размеры, пропорции, силуэт и материал, ведь всегда на талантливого архитектора найдётся с десяток не менее талантливых чиновников, от которых зависит судьба проекта, вот и оглядывается на них художник, приземляет свой полёт под их возможности. А Куратову вдруг остро захотелось свободного полёта, и Оганесов обеспечил ему эту свободу. Имя знаменитого архитектора, негласная, но мощная поддержка нового полпреда президента в Южном федеральном округе, которому, если верить молве, предложили разместить свою резиденцию в уникальном небоскрёбе, и немалые деньги акционеров убедили ростовскую мэрию быстро, а главное, тихо, подписывать все разрешительные документы на грандиозную стройку. Ведь приходилось жертвовать ради прогресса монастырским садом, а всегда найдутся городские сумасшедшие готовые из-за такой малости раздуть скандал. Но Куратова от этих ненужных подробностей предусмотрительно ограждали, художник должен ваять и не спускаться лишний раз на грешную землю, пока не создаст шедевр, перед которым померкнет любой сад.
Куратов же старался придумать нечто такое, чтобы творение его было интересно не только в городской перспективе, а ещё и с ближних точек, ведь он считал себя честным архитектором и строил, в первую очередь, жилой дом, а уж потом шедевр. Пытаясь уйти от структурной жёсткости, которая всегда есть в фасадах небоскрёбов, Куратов экспериментировал с треугольными балконами, активно развивал тему фальш-окон, создавая сбитый иррациональный ритм здания. И когда у него стало получаться, то сама собой возникла тема «вечно сияющего небоскрёба»: закрученная вокруг своей оси, сдвинуто-деформированная гранёная призма ослепительно белой верхушкой словно ввинчивалась в небо над Сурб-Хачем, придавая сходство с той самой монастырской свечой. Для пущего эффекта Куратов растянул цветовую палитру фасада от белоснежного на вершине до тёмно-бежевого, почти кофе с молоком, у колонн основания и на «вечно сияющую свечу» уже заработал и оптический эффект.
Сложнее всего было привязать высотку к монастырю. На холме явно не хватало места для двоих, и небоскрёб вынуждено давил на храм. Сурб-Хач же вёл себя бесцеремонно, как истый местоблюститель ломал Куратову «вечно-сияющую» идиллию, не вписываясь своими фасадами в стиле классицизма, что выходили на север и юг четырёхколонными портиками, в его авангардный замысел. Долго бился Куратов над основанием своего небоскрёба, тщетно пытаясь привычными способами решить проблему, пока не озарило московского гения – поднять основание высотки на многогранные колонны стилизованные под колонны Сурб-Хача. И сразу замкнулся логический круг: уже не душил небоскрёб в объятиях старый храм; перекрашенный в белый цвет, с кофейным орнаментом, сквозь частокол колонн просматривался Сурб-Хач, как и раньше, с любой точки холма, а уж от его подножия или из парка, откуда открывался основной вид, высокий бронзовый купол с крестом выглядел теперь как единое целое с вырастающей над ним сияющей свечой.