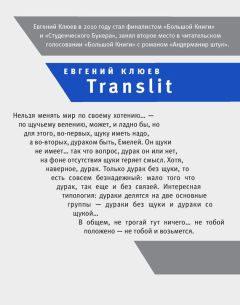Он возвращался домой и плакал. Не от обиды, нет – от разочарования… от разочарования в себе: что не мог на улице петь. Никакой, значит, он не Робертино: Робертино – мог! Мог и пел на улице, никого не стесняясь, и поэтому Робертино был послан Вольмер-Сёренсен. А ему Вольмер-Сёренсен послан не будет никогда: тем, кто стесняется, вольмеров-сёренсенов не посылают.
Позже он пел в хоре, в том же клубе… песню «Солнечный круг». Даже запевалой был, на эгоистически заканчивавшемся припеве: «Пусть всегда буду я».
Это потом, когда все уже пропало навсегда.
Ля синьора Форту-уна-а-а…
Каким-то чудом попав в тональность, позвонил разволнованный Торульф:
– Я подозреваю, что ты пишешь. Что ты не только едешь, но и пишешь. Ты пишешь?
– В данный момент – пою. Но и пишу – тоже. Всегда.
– Петь – это пожалуйста, пой, но вот писанину останови немедленно.
– Торульф, ты же знаешь, что я не могу «остановить писанину»! А потом – поздно уже… я ведь прямо в хельсинском поезде и начал – конечно, не зная еще тогда, как и что.
– Ты в голове пишешь – или… в компьютере, или на бумаге?
– Какая разница, Торульф? Говорю ведь, поздно уже.
– Не поздно, я потому и звоню – остановить!
– Да не остановить уже ничего…
– Ей-богу, какой ты… вот просто совсем без понятия, примитивной же философией-то пользуешься, для наивных-пренаивных людей: а-ты-начни-писать-и-все-пройдет! Ничего не пройдет, тут опасность – смертельная, тебе ли не понимать, говорили ведь с тобой про все такое…
– Не шуми, Торульф, мы не про все такое, мы про другое все говорили, а я – я выдумываю, не летопись событий тут у меня, понимаешь? Ничего этого не было никогда, вранье одно – просто умелое такое вранье… с большим количеством живописных деталей.
– Никакое слово не вранье. Всякое слово – правда, так что заклинаю тебя…
Но – рухнула опять связь… да что ж это у них на пароме со связью-το все время!
Он еще немножко повключал-повыключал телефон – никаких перемен… Telia Danmark словно приказала долго жить.
Старый уже Торульф… совсем уже старый. Из сходящего на нет наивного поколения – их в этом поколении от постмодернистского скепсиса тошнит. Человек прошлого, человек эпохи той правды, которая не дискурсивная конструкция, а… правда-и-ничего-кроме-правды – и за нее жизни не жаль. В то время как за дискурсивную конструкцию – жаль, вот в чем разница, значит.
А сам он? Несмотря на то, что он считал себя человеком настоящего и поборником правды как дискурсивной конструкции, то есть правды обстоятельств, или, если хотите, многих правд, а потому – вруном, он больше всего на свете любил стариков, в сердце своем признавая: без стариков не было бы в этом мире никакой правды, изоврались бы мы все тут на корню. Ибо лживы юность и зрелость: всё тщатся, всё строят из себя не пойми что, у мамы выражение хорошее есть: чего-ты-из-себя-вырабатываешь? – так вот… тщатся, строят, вырабатывают, пестуют свое «я», а чиста только старость, ну и самое раннее детство – когда уже ничего или еще ничего не надо… слишком поздно, слишком рано, старость и детство не знают «я», потому и не врут. Врут ведь только от первого лица.
Тревожно было следить за песком в этих песочных часах: чем спокойнее становилась мама, тем больше беспокоился Торульф – и когда он все-таки доедет туда, куда едет, мама успокоится совсем, а Торульф… но тогда уже не перевернуть будет песочных часов, тяжелые станут, слишком много песка вниз просыпется. С часами песочными ведь что самое главное: их надо не забывать то и дело перевертывать, дашь какому-то количеству песка внизу собраться – тут и перевертывай часы… короче, следили бы за песочными часами, не давали бы песку в одной чаше собраться – такая бы жизнь была, загляденье! Но мы всегда забываем про песочные часы…
Сходил в каюту, посмотрел на соседей… м-да. Что-такое-не-везет-и-как-с-ним-бороться: трое молодых людей, лет по двадцать-двадцать пять, купили пива, врубили музыку, национальность не разберешь, все по-английски говорят… Поперекладывал что-то в чемодане, сказал, что идет на Promenade, там концерт, да-да, мы в курсе, мы тоже придем – в общем, слава Богу, ускользнул… похоже, что каютой-то нельзя пользоваться: пива еще много, английских слов тоже… спать, короче, здесь нельзя – пока, во всяком случае!
В конце коридора некая очень пьяная девица перегородила узенький проход своим телом: голова одну стену подпирает, ноги – другую, по телефону что-то громко рассказывает, по-французски, – работают, значит, телефоны? Посмотрел на свой – оператор не светится…
– Pardonnez-moi s’il vous plaît…
Повторил дважды, девица не шелохнулась, переступил через нее, словно через валик, – и вперед, на Promenade! А там веселье вовсю, цирк-под-сводами… Заказал себе какой-то коктейль, ткнув пальцем куда попало в рубрике меню «Коктейли со спиртным», принесли нечто зеленое, на вкус оказалось ничего, вдруг захотелось есть – попросил принести «сырную симфонию»… тут всё симфония, и сам паром «Симфония» называется. Только отрезал кусочек сыра, как услышал над собой:
– Говорил ведь: ешь как следует, проголодаешься!
Свен-очей-его. Уселся тут же, заказал пива.
Милая пара за соседним столиком, услышав, что рядом общаются не по-русски, продолжила по-русски.
– …и я тогда ему говорю: похожи Вы тут на себя или нет – это не Вам определять! Представляшь, такое говорю? Он – чуть не под потолок: как «не мне определять», когда это мое лицо! А я ему: Вы своего лица не знаете, похожи Вы или нет – это надо спрашивать у тех, кто Вас любит, вот пригласите в мастерскую кого-нибудь – и спросите… Он мне: да я Вам заплачу еще столько же, просто перерисуйте и все, а я, ты ведь знаешь, не могу слышать этого слова, «рисовать», не говоря уже о «перерисовать», тем более со всеми этими «да я заплачу»… – уперлась и баста: ни денег, говорю, не отдам, ни портрета не отдам, пока с кем-нибудь не придете. Понравится ей или ему – берите портрет, не понравится – деньги Вам верну. И тут он весь такой жалкий сделался, маленький… у меня нету, говорит, никого, кто меня любит, родители умерли, говорит, а девушка… ну нету у меня девушки. И – за плечо меня приобнимать: Вы-то, дескать, чего сегодня вечером делаете? Представляешь!
Спутник говорившей, фактурный дядька в хорошей бороде, качал головой, но не смеялся. Сказал только:
– Допрыгалась, значит… – и потом все-таки хохотнул пару раз: одиноким таким филином.
– А то!.. Я тут сразу на попятную: нет, говорю, так дело не пойдет, рисовать Вас я готова, а любить – извините, не могу, другому-отдана-и-буду-век-ему-верна… – Она прыснула, выдержала паузу. – И тут он мне говорит: «Что-то знакомое… читал» – представляешь? В общем, пришлось второй портрет писать соглашаться, за вторые деньги… во как!
– Узнал он себя на втором-то?
– Угу… сказал: ну вот, теперь это точно я. И девочку с собой привел – молодую совсем, та тоже посмотрела и говорит: как две капли воды. Но ты бы видел тот портрет: хоть бы одна черта общая!
– Не любит его девочка-то, – вздохнул бородач, – жалко…
– Houssein, Houssein, come here! – возопил вдруг Свен, словно увидел лучшего друга.
Держа подмышкой ноутбук, к ним приближался сосед по хельсинскому поезду.
Пришлось хлопнуть коктейль залпом.
Лютт Маттэн, Заяц, для собственного удовольствия
решил начать учиться, чтобы овладеть искусством танца,
вот и танцевал – совершенно один, на задних лапках.
Кэйм Райнеке, Лис, подумал: «Неплохая еда!» —
и воскликнул: «Лютг Матгэн? Такой талантливый танцор?
И танцует совершенно один? И на задних лапках?
Ну-ка, давай потанцуем вместе! Я могу за даму!
А Ворон пусть играет на скрипочке, будет славно,
Ах, как все у нас будет здорово на задних лапках!»
Лютт Маттэн протянул переднюю лапку;
Лис загрыз его и уселся в тенечке поедать Лютт Маттэна.
И Вороне тоже досталась одна из задних лапок.{11}
А если бы не мобильный телефон?
Если бы не мобильный телефон, ему вот в данный момент не о чем было бы писать – в голове ли, в компьютере ли, на бумаге – какая разница… то, что у других людей называлось думать, работать, отдыхать, есть, пить, гулять, у него называлось – писать. Слово это имело предельно общее значение… да нет, пожалуй, ничего уже больше не означало и прежде всего не означало создания того или иного текста. В нем просто без конца происходило роение слов – как пчел над ульем, когда взгляду извне непонятно, чего они все тут крутятся и жужжат, в то время как в реальности каждая пчела при деле. Вот такое вот… бесполезно-полезное роение слов. Когда он прочитал, что дон Хуан называл это внутренним диалогом и что единственно правильным поведением по отношению к внутреннему диалогу было бы остановить его, то даже испугался, поняв: свой внутренний диалог ему не остановить никогда. Если же внутренний диалог вдруг остановится независимо от него… – в тот день, когда это случится, и сам он умрет. Тут опять как с пчелами: в тот день, когда прекратится жужжание над ульем, улей перестанет быть…