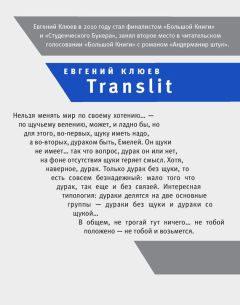Впрочем, едва ли это внутренний диалог, это даже и не внутренний монолог, поскольку ни носителей, ни носителя слов не существует, – существуют только сами слова, по собственной воле взаимодействующие между собой и никому не подконтрольные. Как раз поэтому их и нельзя остановить. Попробуй останови пчел – искусают до смерти.
Мобильный телефон, придя в его жизнь, начал угрожать именно роению слов: звонок, настигавший адресата вне зависимости от того, где он находился, вторгался в роение, сбивая пчел с ритма… пчелы в недоумении зависали над ульем и, повисев секунду, гроздьями падали куда пришлось. Тогда он раз и навсегда отключил звонок и включил вибрацию: как только это было сделано, мобильный телефон стал просто еще одной пчелой, жужжание которой влилось в общий хор – иногда диссонируя, но, в целом, не слишком мешая. Он часто даже не слышал эту новую пчелу. И – ничего, жизнь шла себе по-прежнему: как десять-двенадцать лет назад, когда человеческое живое существо даже представить себе не могло, что способно вынести коммуникацию практически в любом объеме.
В конце концов мобильный телефон решил, что себе дороже, и принялся жить как мог – не столько жизнью владельца, сколько своей самостоятельной, просто рядом с ним: вне зависимости от владельца без конца принимались и отправлялись какие-то сигналы, запоминалась и сортировалась информация, выстраиваясь в столбики, раскладываясь по папкам и помечаясь всевозможными хитрыми значками. Впрочем, делая всю эту обременительную и неблагодарную работу, мобильный телефон постоянно находился в полном его распоряжении – готовый к любым услугам. Выполнять функции фотоаппарата, диктофона, будильника, записной книжки, спасать его от нежелательных собеседников (простите-мне-звонят-телефон-вибрирует), даже поддерживать его вранье, ни одним посторонним звуком не выдавая подлинного местоположения владельца: сказано, что в лесу, – в трубке птицы поют, сказано, что в городе, – машины гудят. Врать в таких условиях было сплошным удовольствием. Ты-из-дома-звонишь? – Конечно-откуда-ж-еще!.. Милые мои, наивные мои собеседники, верьте всему, верьте и знайте: я там, где вы хотите. Просто скажите, где мне быть, – там и буду, пожалуйста-без-паники.
Однако жизнь на пароме шла почти как в домобильные времена: Telia постоянно тонула в морских волнах, связи с материком не было, а если ему или к нему удавалось прорваться, то ненадолго. Писать становилось не о чем: вместе с мобильным телефоном отказывал и мир. Правда, изредка телефон начинал вдруг вибрировать на своем шнурке, но отвечать казалось бессмысленным: ни один разговор все равно не мог состояться как следует. Хотя… в этом было даже некое преимущество – например, вот и только что, когда позвонила Кит. Она обычно не тратила времени ни на приветствия, ни на прочую чепуху:
– Пишешь?
– Пишу.
– О чем сейчас?
– Сейчас о тебе.
– Так… стоп-стоп-стоп, немедленно прекращай обо мне, я не хочу быть героиней твоих романов, ты же обещал!
– Этот роман не может состояться без тебя.
– Любой роман может состояться без меня!
– Видишь ли, это даже не роман, Кит…
– Ах, – беспечно перебила она его, – у тебя всё роман. Дело ведь в чем…
На этом Telia, к вящей его радости, снова потонула в морских водах, не дав узнать, в чем же дело. Он улыбнулся: а вот интересно, договорились они с Кит до чего-нибудь или нет.
Кстати, Кит можно понять: он действительно обещал, что ее никогда не окажется в его писанине. Есть люди, говорила она, которым хочется там оказаться, – пусть, а мне не хочется и не захочется никогда, обещай мне, что так и будет.
– Так и будет, – сказал он.
Но Кит уже поселилась в романе – непонятно было, правда, останется ли она здесь… при таком-то сопротивлении.
«А если ты не начнешь искать меня еще лет тридцать?» – спросил он, помнится, Манон, и Манон ответила: «Тогда мы увидимся в каком-нибудь твоем романе, обещай мне, что так и будет!»
– Так и будет, – сказал он.
С Манон в этом романе они пока не увиделись. И было непонятно, увидятся ли.
Впрочем, конечно же, все будет не так, а так, как получится, не сердись, Кит, не сердись, Манон, это не он обещал, а один-другой-мальчик-на-него-похожий. Данный же мальчик («мальчик»!) не отвечает тут ни за что – за себя даже и то не отвечает. За него отвечают все кому не лень – и не похоже, чтобы кому-то было лень! Данный мальчик постыдно размножается тут… – размножается что твой кролик, да и нету уже, в сущности, никакого данного мальчика: данных мальчиков теперь много, мальчик на мальчике и мальчиком погоняет! Причем все похожи друг на друга, как две капли воды… Кьеркегора на них нет. Он-το уж мог бы объяснить, что всякое подобие – обман, что не существует на свете двух одинаковых людей, что каждый из нас уникален… или, на худой конец, что внешнее сходство еще ничего не означает.
Впрочем, не подтверждает действительность этой почтенной точки зрения: вот хоть и его собственная уникальность растиражирована – причем не только им самим, но и другими всеми… всеми, стало быть, кому не лень. И на данный момент он существует как минимум в трех предъявлениях: он для себя и пятерых самых-близких, он для мамы и он для тети Лиды-с-мужем, а также Ансельма, Нины и Асты. Тут пришлось усмехнуться: в трех предъявлениях… – как в трех ипостасях! Известен только один подобный случай – и то непостижимый. Эко его… повело-то.
Он вспомнил Александру Давид-Неэль – автора когда-то на всю жизнь полонившей его книги… кажется, «Мистики и маги Тибета» или что-то вроде. Там сплошь были подобные вещи: хитроумные ламы постоянно рассылали своих двойников во всех направлениях – и никаких проблем! Даже и автору книги, скромной исследовательнице Тибета, как-то удалось создать около себя ставшего впоследствии неприятным ей тучного ламу… фактически из ничего.
У самого-то у него были (по крайней мере, тогда) буквы – какая-никакая физическая субстанция: пишешь? – пишу.
Непонятно осталось не только то, как это все делалось незабвенной Александрой Давид-Неэль, но и то, верить ли незабвенной Александре Давид-Неэль или считать ее дамой не в себе… Второго не хотелось бы – да, по совести сказать, и получалось не очень, больно уж буднично она обо всем сообщала: собралась как-то, да и создала тучного ламу – сначала не вполне видимого, но потом даже слишком хорошо видимого… создала, значит, а он обнаглел, пришлось рассеять. В общем, оставалось только верить – еще и потому, что дело в Тибете происходило: всему, что происходит в Тибете, верится легко, регион такой, одни загадки, разгадок никаких, но и не требуется разгадок.
Вот и у загадки его троичности – пока троичности – разгадки нет, нет и быть не может. И не было разгадки у интереса Марины к социологии и смешанным бракам. И не было разгадки у отъезда Алексея Петровича Мезенцева в Бельгию. И не было разгадки у периодически окружающего его теперь кольца черносливового дыма… – впрочем, с этим-то мы сейчас разберемся.
Он спустился с Promenade на этаж ниже и вошел в супермаркет. Табачные изделия находились прямо справа – беспошлинно, как и обещал свен-очей-его. Значит, табак с запахом чернослива. Едва ли тут есть эксперты, знающие сорта трубочного табака, – обычного продавца, и то не видно! Впрочем, и выбор трубочных Табаков невелик… Посадив на нос непригодные для этих – и никаких других – целей очки, он начал вглядываться в крохотные буквы на обратной стороне жестянок – с ума они все посходили, это даже не шестой кегль, а четвертый-пятый, небось… Буквы прыгали перед глазами – словно не физическая субстанция, словно мираж! Хотя ведь, вроде бы, и мираж – физическая субстанция, сотканная из слоев воздуха. Ну ладно, Бог с ним, с миражом.
И он нашел табак с добавками чернослива! Табак назывался длинно: Paul Olsen, значит… My Own Blend «King Frederick Mild» – датский? Заплатив за короля Фредерика – мягкого! – ни много ни мало двадцать евро, он задумался, где бы купить трубку. В этом отделе трубок не было.
Не нашлось трубки и нигде на Promenade… всё предусмотрели паромщики, а трубок не предусмотрели. Однако нашлась бумага для самокруток – и нашлось у него соответствующее умение: во всех датчанах оно от природы заложено, каждый из них хоть раз в жизни попробовал это дело, самокрутки крутить, в целях экономии денег на курево – понятно, самокрутками дешевле обходится, он когда-то тоже пробовал… правда, не прижилось.
Вышел на палубу: ветер и дождь. В носовой части обнаружилось укрытие: небольшой салон со скамейками. Желающих посидеть тут в одиннадцатом часу вечера не оказалось, что и хорошо. Он уселся на скамейку посередине, скрутил самокрутку…
Ну вот тебе и черносливовый дым, дорогой: наконец-то добрались, стало быть, до черносливового дыма. Gott grüss’ euch Alter, schmeckt das Pfeifchen?.. Он закрыл глаза, собираясь вернуться в раннее детство, но вернулся не туда. Там, куда он вернулся, говорили по-немецки, и тоже была трубка, только дым другой, медовый.