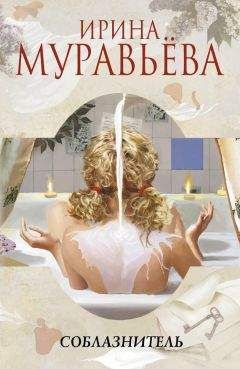А Марк Переслени стоял и смотрел. Бедная, ко многому привыкшая жена его, чувствуя, что прежнее веселое и энергичное состояние драматурга меняется, хотела, чтобы эти дачные розы и пение птиц, до того заполнявших задумчивый лес, что их крылья сливались с пятнистой листвою и часто казалось, что листья поют, а не птицы, – хотела несчастная Лара Поспелова помочь ему с помощью летней природы, поэтому даже и дочь свою Веру забыла на время и вся устремилась душою и телом к больному супругу.
Однажды, когда они оба сидели под вишней на клетчатом пледе и Лара с тревогой следила за тем, как мрачнеют глаза драматурга, раздался звонок.
– Лариса, ты знала, что Вера… – и голос родной ее матери дрогнул, – что Вера спит с турком? Ты знала об этом? И то, что ей только пятнадцать, ты помнишь?
Лариса Генриховна, ахнув, быстро зажала трубку ладонью и, вырвавшись из рук своего мужа, перебежала к другой вишне, осыпанной недозревшими ягодами.
– Молчи, мама! Я ничему не поверю!
Лина Борисовна подышала в трубку.
– Такое, – сказала она, – я не только что и ожидать от тебя не могла… такое случается раз в тыщу лет… Тебе говорят, а ты слушать не хочешь. Я руки свои умываю, ты слышишь?
Лариса заплакала.
– Лара, ты плачешь? – спросил Переслени, – опять тебя теща достала, Лариса?
– Ты можешь сейчас объяснить, что случилось? – спросила жена Переслени у матери. – Тебе кто сказал? Сама Вера сказала?
– Я Веру почти и не вижу, Лариса! – воскликнула мать, – она возвращается ночью! Глубокой! С последним метро! И все что угодно с ней может случиться! Ты думаешь, что? Я шучу или как?
– Сейчас я приеду, – сказала Лариса и вытерла слезы. – Мы вместе обсудим.
Легкими шагами она подошла к своему мужу, опрокинувшемуся навзничь в густой траве и сбившему клетчатый плед к корням вишни, и тихо сказала:
– Мне нужно уехать.
– Что? Вера опять? – спросил он, но даже движенья не сделал навстречу.
– Тебе безразлично? – она побледнела.
– А я тебе так объясню, дорогая: вот если мы даже с тобой сейчас прыгнем на это, вон, круглое облачко, видишь? Ничем мы с тобой не поможем ни Вере, ни маме твоей, ни учителю этому… Никто никому никогда не поможет. И каждый из нас проживет свою жизнь так, как предначертано. Да, это так.
– Ты, значит, считаешь, что можно о детях и не беспокоиться? Так ты считаешь?
Он снова уставил свой взгляд в небеса.
– Их нужно кормить. Обнимать. Остальное – не наших рук дело. Пускай сами учатся разным премудростям.
– Я брошу тебя. Ты чудовище, Марк.
– Бросай. Будет плохо.
Слегка помрачнев, он закрыл лоб руками, и локти его забелели, как мрамор, на фоне здоровой зеленой травы. Жена легла рядом. Нелепое дело – такая вот власть над душой слабой женщины, такая вот власть над ее слабым телом. И ладно бы был он каким-нибудь летчиком! А то ведь – пустейшее место, писатель. Она тихо плакала, – тихо, беззвучно, – уткнувшись лицом в перегретую землю, дыша ее запахом свежих цветов, телами живущих внутри насекомых, жуков деловитых, холодных червей, которые даже имен не имеют, и думала: «Господи! Как я устала!»
Поздно вечером состоялся бурный разговор между Линой Борисовной и Ларисой Генриховной. Выглядели обе они так, что если бы их встретил на улице недоброжелатель или, что еще правдоподобнее, недоброжелательница, то сердце того, кто их встретил бы, сразу наполнилось счастием и ликованьем. Лариса Генриховна, прорыдавшая всю дорогу в электричке, была ярко-красной, распухшей от слез, а Лина Борисовна вдруг превратилась из женщины немолодой, но приятной и благообразной наружности почти в старика. Была она в старых пижамных штанах и признаки женского пола утратила. Ее низкий голос стал басом, а волосы, зачесанные на затылок, повылезли. И та и другая кричали, как будто хотели лопнуть от этого крика, при этом хватали друг друга за пальцы, и пальцы хрустели.
– Ты знала, что дочь твоя спит с мужиком! И ты промолчала! Ты кто после этого?!
– Я знала? Откуда я знала? Я разве когда-нибудь что-нибудь знаю? Она вся в тебя! Ты ее воспитала! И ты научила ее этой скрытности! Она рассказала отцу! По секрету!
– Какому отцу? Переслени? Ну, знаешь…
– Да, он ей – отец! И ему она верит!
– Когда он опять будет вешаться, Лара, пускай она это увидит! Пускай!
– Но я ведь тебе запретила о Марке…
– Ох, я испугалась! Сейчас закричу! Она «запретила»! Скажите на милость! Какая ты мать? Ты ей мачеха, Лара! Родные родители разве бросают детей в малолетстве! И ради мерзавцев!
– Не смей! Я тебе запрещаю! Он – муж мой!
– Черт с ним! Не о нем разговор! Растереть! – плевала на пол и плевок растирала, – она, моя деточка, спит с проходимцем! Он может ее заразить даже СПИДом! Он может ей сделать ребеночка! Лара! Тогда вот вы что запоете, родители?! Сегодня пришли ко мне два диких парня, носы, как у ястребов! Черные ногти! И стали ее – что ты думаешь? – сватать!
– Как сватать? – спросила распухшая дочь.
– А как в деревнях у них сватают, в Турции? И карточки мне показали! На каждой стоит по ослу! «Давайте ее, – говорят, – вашу внучку! Пускай они женятся и уезжают!»
– А ты что?
– А я что? Я благословила, а как же? «Спасибо за честь, – говорю, – осчастливили!»
Но тут вошла Вера. Худая, веселая, с копной всклокоченных желтых волос.
– Ну вот и пришла наша Красная Шапочка! – И Лина Борисовна вся затряслась. – Пока твоя мать не вмешалась, ответь мне: зачем ты спишь с турком?
– С каким еще турком? – ответила дерзкая Красная Шапочка.
– Я – завтра в милицию. Пусть разбираются. Пускай забирают его в Интерпол! Я так и скажу: моя внучка – ребенок, ее соблазнил иностранный товарищ…
– Молчи, мама! Доченька! – У Лары Поспеловой дрожало лицо так, что Вера смутилась. – Я знаю, что я виновата! Я знаю. Прости меня, доченька…
Она подошла к ней и крепко прижалась к ее молодому, счастливому телу и, сразу почувствовав, сколько в нем силы, и сколько в нем терпких разбуженных соков, и как оно пахнет – не детским, а женским, – отпрянула, все поняла и без слов.
Потом они плакали. Громче всех Вера. Стояли, обнявшись, мать, дочка и внучка. Сплетались руками, как дерево ветками, шептали, давясь от рыданий, пытаясь укрыться своей общей плотью от этой, всегда угрожающей жизни, которой никто из нас не господин, которая так норовит всех изранить и сделать всех жестче, грубей, подозрительней, чем и приближает нас к смерти быстрее, чем нам бы хотелось, чем мы ожидали.
Через неделю братья Алчоба и Башрут с трудом пропихнули в салон самолета пьяного олененочка своего, молодого Ислама, свесившего чернокудрявую, с сизым отливом, голову на грудь. И трудно представить, чего это стоило Алчобе с Башрутом. Ислама в таком его бедственном виде никак не впускали ни в зал ожиданья, ни на территорию аэропорта. Алчоба с Башрутом, глотая скупые мужские слезинки, достали бумагу и стали совать ее в руки начальству. Бумагу для них написал дядя Миша:
«Товарищ начальник. Вчера схоронили невесту Ислама красавицу девушку Веру. Ислам помутился залил горе водкой. А так он непьющий. Везем его к маме и мамой клянемся что больше не будем. Экинджи Башрут и Экинджи Алчоба».
(Кроме того, что в бумаге почти отсутствовали знаки препинания, в ней было множество орфографических ошибок, воспроизводить которые показалось мне излишним.)
«По снегу, черному от подметок и желтому от испражнений, шли войска великой армии, неделю назад впервые испытавшей поражение. Самым страшным было то, что женщины перестали стесняться мужчин, а мужчины женщин. Теперь уже было и непонятно, зачем эти прежние герои, силу которых истощили азиатские варвары, вели за собою такое количество красивых, высоких, изысканных женщин, известных к тому же своею наивностью. Грубые солдаты начали поговаривать, что от этих женщин нужно как можно быстрее освободиться, поскольку они все дорогой помрут, и лучше пускай разбегутся сейчас и ищут себе пропитание сами. Полковник Левицкий пробовал пресечь эти разговоры, но солдаты перестали слушаться его. Плотские существа их, достигнув последней степени унижения и слабости, как будто забыли, что в каждом из них – живая душа, бестелесное облако…»
Роман приближался к концу. Один из приятелей Бородина, сотрудник толстого журнала, во главе которого стояла властная женщина с восковыми, аккуратно причесанными волосами, сказал, что можно предложить роман этому журналу, но добавил, что, хотя лично ему очень интересно, какой шедевр вышел из-под пера Андрея Андреича, он не ручается за успех, поскольку начальница столь своевольна, что может быть всякое. Сам Бородин нисколько не тревожился. Странная уверенность, что весь мир будет покорен этим романом, не покидала его. Единственный человек, который мог позволить себе красить ногти в то время, когда он читал только что написанные куски, была Вера, но и она, то и дело вытягивающая вперед растопыренные, пахнущие лаком пальчики, хвалила Бородина и говорила, что написанное им в сто раз лучше всей английской литературы. А он слушал то, что она говорила, как будто бы рыжая девочка эта, вся в красных следах от его поцелуев, могла отвечать за свои рассужденья. Она говорила ему: «Ты – писатель». И он соглашался, кивал: «Да, писатель. Неважно, что это мой первый роман. Ведь главное было начать. Правда, Вера?»