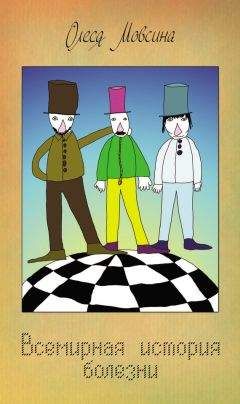Агния:
В регистратуре мне сказали, что Тёме лучше и что его перевели из реанимации сегодня утром. Что разговаривать он ещё не может, но жизнь его уже вне опасности. И ещё были какие-то круглые фразы, а я сочувственно кивала и по-прежнему не могла понять, зачем всему этому верю. Да, и ещё что к нему посторонних пока не пускают, а с врачом поговорить можно в кабинете таком-то таком-то. Машинально переобулась и стала подниматься к врачу.
В этой больнице снимали кино. На третьем этаже мне пришлось перепрыгивать через провода. Посетители и больные с наслаждением глазели на камеру. Неаккуратно одетые люди из съёмочной группы суетились у окна в конце коридора. Я боялась подумать о Тёме, боялась задеть ногой какой-нибудь провод. И всё-таки наступила. Айкендуевы! Они сказали, что он просил позвать одноклассницу Агнию. А в регистратуре оказалось, что он вообще не может говорить. Опять какая-то мистика. Ладно, врач объяснит. Я подёргала ручку кабинета такого-то. Кабинет такой-то был заперт и всё тут. Ладно, я помчалась обратно в регистратуру.
Не знаю, врачи они или санитары, но сказали, что работают в вашей больнице. Да-да, фамилия Ай-кен-ду-е-вы. Регистратурная тётушка покачала причёской. Потом позвонила куда-то, переспросила, и снова её причёска дёрнулась, на этот раз ещё энергичнее. На всякий случай я заглянула в буфет и в гардероб, но естественно, там не было никаких моих разлюбезных панибратьев. И быть, наверное, не могло.
Возвращаясь к кабинету врача, я поняла, что там делали киношники в конце коридора. Они заклеивали плотной бумагой окно, чтобы день превратился в ночь. Но интересно не это. Там же, прямо в коридоре стояла кровать с больной старушенцией. Видимо, ей, разнесчастной, не хватило места – не то в палате, не то вообще в этой жизни. Парадоксально проспав суету приготовлений, бабуля только теперь открыла глаза и – вот куда надо было направить камеру! Это безропотное изумление при виде погасшего солнца в окне, это печальное смирение с тем, что однажды просыпаешься по другую сторону жизни… Я поняла, что сама сейчас буду плакать. Тёма. Дима.
– Деточка, родная, – прильнул к моему плечу заплаканный старик около запертого кабинета. Нет, граждане, это было уж слишком. И я попыталась аккуратно его стряхнуть. А может быть, они оба – просто репетирующие актёры?
– Я вчера только приехал из деревни… Вечером… А он никому не сказал, что поедет в Москву… Так неожиданно. Родители там, а меня попросили в милицию за вещами. Мы вот и сходили с Витькой, с его дядей… Это мой старший… А потом сразу сюда, а его в другую палату перевели… А врач…
Мужчина, видимо, тот самый Витька, оттянул от меня старика и заставил его сесть на зелёную скамеечку возле кабинета. Старик сел и суетливо стал отбирать у своего старшего какие-то вещи – пакеты, бумаги, пытаясь их перетасовать и сложить поудобнее. Врача всё не было. Режиссёр или кто-то из его помощников подошёл к нашей скорбной троице и приторно вежливо попросил подождать в каком-нибудь другом месте. Дабы не мешать съёмочному процессу. Потом отвернулся и стал беззлобно материть каких-то пропавших на обеде звуковиков. Старик суетливо и всё всхлипывая потопал следом за сыном, а я ещё раз безутешно дернула ручку такого-то злосчастного кабинета. Может, врач всё-таки придёт? Ну и невезуха мне сегодня. Пойду попрошусь к Тёме в палату. Скажу, что я не посторонняя, скажу.
На зелёной скамеечке лежала потрёпанная книжка, очень похожая на самого дедушку, такая же от природы несчастная. Забыл, бедолага. Я взяла её и добропорядочно пошла догонять родственников пострадавшего. На лестнице их уже не было, и я задумалась: вверх или вниз?
Шумная съёмочная группа, так и не нашедшая своего звукорежиссёра, вытеснила меня на нижнюю площадку. Шатобриан. «Записки из могилы». Да уж, невесёлый дедуля, и чтиво ему под стать.
И вот честное слово, я не могу теперь вспомнить, что случилось прежде: моя мысль о том, чей это может быть дедушка, или. Я приоткрыла книгу на странице торчавшей закладки и, боже мой, увидела эту закладку. Это был наспех оторванный кусок почтового конверта с обратным адресом отправителя. Я видела этот почерк и этот адрес сто раз. Это был написанный Мариной рукой Марин адрес в Париже.
Географическая энциклопедия:
Город с самым длинным на Земном шаре названием находится в Новой Зеландии. Имя этого города таково: Тауматауакатангиангакоауауотаматеапокануэнуакитанатаху. Написанное на английском языке, это уникальное название состоит из 57 букв, в российском варианте – из 54. Но если перевести название с языка маори (коренных жителей Новой Зеландии), то в русском переводе будет насчитываться всё-таки 57 букв. А имя города прозвучит очень поэтично: «Вершина, где Таматеа Покаи Уэнуа играл на флейте своей возлюбленной».
Агния:
Вечером я узнала: Артём умер в больнице. Моя мама позвонила и сказала, что наш одноклассник и Тёмин друг Ваня приходил и искал меня. У меня больно скрежетнуло в горле, и обои потекли перед глазами куда-то вбок, но плакать я не смогла. Немножко отдышалась и стала слушать подробный мамин отчёт. Она возвращалась с работы и увидела на скамейке у подъезда толстого и лысоватого человека. Он поднялся ей навстречу и спросил: вы случайно не знаете, где живёт девушка по имени Агния? А то я нашёл дом, а квартиру не помню. Человек этот был пьян и едва ли показался маме знакомым. Поэтому прежде всего она устроила ему строжайший допрос. Потом уже, когда они признали друг друга, признались друг другу, Ваня долго говорил о Тёме и о Диме, плакал, жаловался на судьбу и почему-то предлагал денег ей и мне.
– Ладно, мама, с Ваней мы разберёмся, – сказала я в трубку странным голосом, похожим на голос Лены. Сама испугалась. А уж мама и подавно, спросила: к тебе приехать?
Нет, мамуль, нет. На этот раз я справлюсь сама. Начинаю привыкать. Такая иссиня-чёрная шутка. Я поцеловала её в трубке, и мы расстались. Одной теперь страшно, но только не с мамой. В этом мы друг другу не поддержка. И я стала быстро-быстро ходить по коридору, в котором мне опять померещились старые жемчужины, но так и не было слёз. Можно сказать, просто-напросто заметалась. Глубоко дышать, и тогда это отступит. Надо сесть на стул и по-человечески заплакать.
Конечно, вспомнила, как Дима. Тот день у меня отпечатался ясным стёклышком, это потом я уже спустилась в отупение и беспамятство горя.
И главное, странно. Когда узнаешь о смерти близкого или просто знакомого, первое стремление – рассказать об этом всем-всем. Какое-то истерическое, патологическое желание сообщать.
Я накинула куртку и выскочила на лестничную площадку. Соседи. Они говорили, что живут в этой квартире. И как же я сразу не догадалась к ним зайти? Мне долго не открывали. Потом я увидела в дверях заспанную и недовольную женщину с совершенно незнакомым, несоседским лицом. Мелькнула было мысль, что уже поздно и ночь.
– Полиблюд и Канистрат Айкендуевы? Как же, как же, – язвительно куталась женщина в неприятно-неопрятный халат. – Только вчера уехали. А теперь здесь живут сеньор Перец, сеньора Перечница и детишки ихние Перчатки. Спокойной ночи, – подытожила она и надавила на дверь.
– И ещё у них была ручная крыса Оболтус, – назло, но невпопад промямлила я закрывшейся женщине. Значит, Айкендуевы – это мой бред, я закурила прямо на площадке, всё ещё надеясь на что-то. На то, что вот едет лифт и там окажутся мои пресловутые панибратья. Лифт приехал на мою площадку, и там оказался почему-то Вадим Максимов.
Серьёзный и грустный и даже почти что трезвый. Мы молча прошли ко мне на кухню.
– Хочешь есть? – опять спросила я машинально. А потом: как ты узнал, что мне. И он ответил, что и ему тоже. А потом.
Потом он спросил: милая, хочешь, я сыграю для тебя на флейте? Но даже тогда я не смогла заплакать, хотя мне этого очень сильно хотелось.
Вадим:
Жизнь почти перестала радовать. Может, сам виноват: я перестал ей радоваться. Разве можно сравнить Пасху в детстве и сейчас? Утром запах изюма и сахарной пудры. Буренькие, всех-всех оттенков яички в хороводе вокруг кулича. На тёплом от солнца коричневом столе. А сейчас я и не заметил, как она пришла и прошла.
В детстве я ходил в музыкальную школу. Ничего не выходил, ну и что. Зато флейта всегда была моим милым другом. Сначала одна, потом приятель привез мне из Ирландии новую. Когда становилось плохо, я садился и играл. А однажды в походе, на озере, среди ночи. И на звук моей флейты вышли из леса двое, сказали, что заблудились, а моя музыка их, дескать, вывела. До утра на нашей стоянке просидели, а потом куда-то исчезли, растворились, как ангелы в тумане.
Сила искусства. Девочка с персиками Серова, гумилёвский Жираф, а главное – флейта – всегда действовали на меня особо. Как будто одним движением кто-то пыль в голове вытрет. Как будто. Я никогда не злоупотреблял, боялся, что привыкну к ним и действие их магическое исчезнет. Увы и ах, конечно, оно исчезло. Ничего не хочу. То есть я хочу чего-нибудь хотеть, но не так чтобы очень. Надоело. Не нужно. Устал.