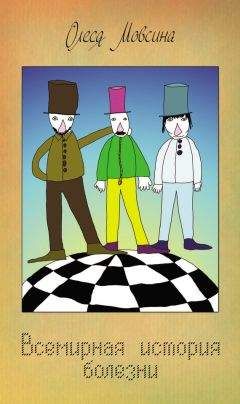На обратном пути следования маршрутки я вышла у института.
– Не знаю, – удержал меня Саша, когда я была готова захлопнуть дверь, – может быть, это и не Воскресёнок вовсе…
Потом махнул рукой и закончил как ни в чём не бывало:
– Граждане пассажиры, закрывайте двери душевно, а не от души.
Так я и поступила.
Мара:
Я бы не стала поднимать эту тему: поднимать с пола, отряхивать, ставить и так далее – больно уж она затасканная-перетасканная. Но для нас – для меня и для Нюси – это очень важно: цветная азбука, психология цвета и прочее. Так что простите, господа, ещё раз о.
Собственно, это нас и сблизило тогда. Я случайно обмолвилась о том, что терпеть не могу розового, оранжевым лечусь, когда грущу, а вот от красного просто тащусь в любом виде и при любой погоде. Не задумываясь ни секунды, Агния выложила мне свою жизненную позицию. Что-то вроде: нет, оранжевый мне только мерещится во время оргазма, а в жизни я уважаю все оттенки сиренево-фиолетового, зато с недоверием отношусь к синему и ко всем, кто его любит.
Я залюбовалась её уверенностью. Коню понятно, что здесь важны не различия, а главное сходство – отношение к Цвету.
– Хорошо, – бросила я ей ещё одну наживку, – в таком случае какого цвета у тебя буква А и вместе с ней слово Агния?
– Оранжевого, – беспомощно улыбнулась она.
– Прости, дружище, у меня буква А сильно синяя, и с этим ничего не поделаешь.
Агния всерьёз нахмурилась, и я поняла, что в ней тоже пропал художник.
– Не горюй, дружище, – утешила я мою девочку, – буду называть тебя ласково Нюся, по крайней мере, у меня нейтрально жёлтая. Ты не против?
Это было примерно через неделю после нашего с ней знакомства. Мы сидели у неё на кухне, пили какие-то дрянные наливки и много говорили о Воннегуте, о нелюбви к шампанскому, о французском кино и поездках в Африку Рембо и Гумилёва, о превратностях судьбы и головной боли во время месячных.
Потом она почему-то сказала:
– Мне кажется, что мы с тобой или сильно подружимся, или станем жуткими врагами. Будем как сёстры, или возненавидим друг дружку.
Я испугалась её слишком серьёзного тона и впрыснула смешинку:
– Одно другому не помешает.
Она обернулась от плиты, где варила кофе, и как-то удивляясь не то мне, не то самой себе, произнесла:
– Когда ты вот так говоришь, каким-то грудным смехом журчишь, я понять не могу, то ли ты надо мной издеваешься, то ли что. Но мне нравится слушать в тебе эту интонацию. Ну-ка скажи что-нибудь ещё.
– Да ну тебя, – отмахнулась я, однако не меняя тона. – Кстати, дружище, а какого у тебя цвета буква М?
Мне показалось, что в глазах Нюси метнулось и пропало восхищение.
Лена:
Не понимаю, почему он такой упрямый. Сколько раз говорила ему: Данечка, рисуй разными цветами, посмотри, какие красивые краски. Нет, всё равно больше всего чёрным рисует. И карандашом, и красками, и фломастером.
Спрашиваю у няни и у воспитательницы в детском саду: разве это нормально? Говорят – так бывает. Может, всё-таки сводить его к детскому психологу?
Мара:
Однажды нас лишили прав гражданских. Мы приехали к Нюсиным родственникам в деревню, а оказалось, что в тот же день к ним приехали ещё одни родственники и что спать нам предстоит в лучшем случае на полу.
Мы предпочли худший случай, решив и вовсе не спать. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Когда «взрослые» улеглись, Нюся нашла в ящике на террасе свой старый канцелярский набор: бумагу, картон, краски, клей. Это решило нашу с ней судьбу, и в ту ночь мы стали Верленом и Рембо, вырезая, клея и крася в чёрный цвет картонные цилиндры. Мы много говорили, пили и смеялись за работой. По мере того как напивались, всё больше ощущали себя проклятыми и гениальными. Я, конечно, читала стихи, переходя с французского на русский и обратно в восторженном беспорядке.
Окно нашей террасы осаждали ночные бабочки, некоторым удавалось как-то просочиться внутрь, и они с озверелыми лицами били себя лампой в грудь. Вдруг я заметила, что Нюся, глядя на бабочек, подавленно вздрагивает.
– Ты чего? – удивилась я.
Нюсечка поморщилась:
– Не люблю.
Оказалось, что – как некоторые женщины боятся мышей, лягушек, змей – так моя подруга боится ночных бабочек. Именно ночных, белых, мохнатеньких, с толстыми брюшками.
– Вот, кстати, – усмехнулась она улыбочкой мазохиста и вытащила из всё того же ящика папку со своими акварелями. Я аж присвистнула: большинство рисунков смотрело на меня бело-кремово-желтоватыми мучнистыми тварями, разных видов и размеров, выведенными с дотошностью энтомолога.
– Это что? Это зачем? – удивлялась я всё больше и больше, любуясь крылатыми красавицами. – Это ты рисовала?
– Да, – вздохнула Нюся как о чём-то вполне неприятном, но в то же время – не без гордости. – Так я пыталась побороть в себе отвращение, о-тварь-щение. Надеялась к ним привыкнуть.
И тогда же она рассказала мне историю о своей соседке. Прошлым летом Нюся работала в детском лагере вожатой, водила сопливый пятый отряд – на пару с некой девицей Инной. Инна целый месяц жила в одной комнате с Нюсей и, конечно, успела изучить мою дурочку как облупленную. Забавлялась Инна тем, что ловила по вечерам белых бабочек, а потом подсовывала их Нюсе живыми или мёртвыми. То в одежду, то в книгу, а то и в постель могла запустить мохнатое шебуршащее чудовище.
– Ну и отношеньица у вас были с напарницей, – осторожно предположила я, – ты-то ей хоть за это отомстила хорошенько?
А Нюся просветлённо улыбнулась:
– Нет, не отомстила. Я её очень любила.
Любила?
– Да, и она меня тоже. А бабочек – это не со зла, это именно, может быть, из-за любви. Как те самые детишки, которых мы пасли. Ну, мальчишки часто делают девчонкам всякие гадости, чтобы выразить свою симпатию, вот и всё.
Мы вышли на ночную деревенскую улицу в ещё непросохших цилиндрах. Припозднившимся сельским алкоголикам белая горячка прежде в таком виде не являлась. Для пущей убедительности я стала разговаривать по-французски, а Нюся только с трудом сдерживала радостно-истерический смех.
Мы дошли до озера. Оно внезапно выскочило из-за холма, из непрозрачной тьмы – неожиданно белой полоской. Нюся вздрогнула: что это? Хотя прекрасно знала, что на том месте должно быть озеро.
– Девушка Инна, – спросила я как можно непринуждённей, – что она теперь?
– Не знаю, – отозвалось из темноты. – Мы с ней обменялись любезностями, адресами и телефонами, даже плакали, когда разъезжались, а потом ни разу. Ни я, ни она друг другу не позвонили. Как странно, да?
Я нащупала Нюсину руку рядом со своей, сказала: «Держи», и её глупая ладошка доверчиво проглотила подарок. Нюся тихонько вскрикнула, но я поняла, что бабочку она не выпустила, продолжала сжимать в кулаке.
– Это ты что, от самого дома несла? Специально, чтобы мне…
– Да, – ответила я гордо, – ты же теперь Артюр Рембо, великий поэт, мужчина, ты должен быть выше всяких там женских фобий.
– Нет, – она пыталась рассмотреть при свете озера полудохлое насекомое, – это не женская фобия. Мне кажется, что они выглядят так, как должна выглядеть смерть. Поэтому я и пытаюсь преодолеть свой страх, своё отвращение. Я смерти не верю. С тех пор как погиб очень любимый мой человек, смерть кажется мне ненастоящей. Лицемерной вороной в павлиньих перьях. Фальшивка, дешёвка, дырка от бублика. Она запудрила всем мозги, и все её боятся. А я знаю, знаю, что можно её победить! Я клянусь тебе, знаю, что можно, только пока не знаю – как!
У Нюси явно намечалась истерика. Я попробовала её окликнуть:
– Артюр…
– Понимаешь, любой ценой, любыми средствами. Может быть, их всех можно воскресить, как Фёдоров мечтал, а может, те, кто туда ушёл, они живее нас и сидят смеются над нашим представлением о смерти. Ты-то хоть меня понимаешь? И на, забери свою, – она размазала мне по ладони останки крылатого, мохнатого «вестника смерти».
Мне только и смоглось выдавить из себя:
– А я-то тут при чём? – и сама не очень понимала, что это вдруг заклокотало у меня внутри: смех или обида, раздражение или торжество.
Нюся задрожала всем голосом, как бы извиняясь за крик:
– А ты – наверное, при мне.
И переключая настроение, уже хулиганя, резко дёрнула меня за руку.
Цилиндры! Но было поздно, мы оба ухнули с холма и покатились вниз, к озеру, визжа и хохоча, по влажной траве.
Под утро мы вернулись на свою террасу, повесили на гвоздики слегка помятые головные уборы, и, сев друг напротив дружки за круглым столом, сложили на руки свои проклятые головы, да так и умерли от страстного желания спать. Зато наутро воскресли, исполнив в какой-то мере глупую Нюсину клятву.
Автор («из раннего»):
Я ненавижу насекомых,
Я белых бабочек ночных,
Косматых, толстых, незнакомых
Боюсь. И кто придумал их?
Куда их столько налетело?
Кто этим тварям дверь открыл?
Мукой осыпанное тело
И шорох лилипутских крыл.
Они садятся мне на плечи,
О гадкие, летите прочь!
И смотрят глазки человечьи
Из ночи – в ночь.
Ещё летят – в глаза и в уши,
С волос не успеваю снять.
Не понимаю, где снаружи,
А где уже внутри меня.
И я кричу: мне страшно, страшно! —
Нет крика, слышен только стон
Как в густо сваренную кашу,
Как тем, чьё имя легион.
Я задыхаюсь: крылья, лица…
Сознанье валится из рук.
Как будто это всё мне снится,
Как будто я сейчас умру.
Вадим: