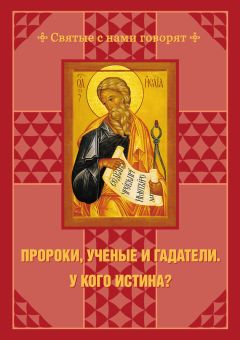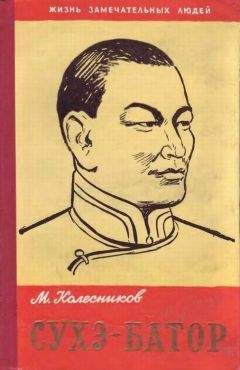– Байартай! – внезапно появились буквы на экране дисплея. Что-то щелкнуло, и музыка оборвалась.
Judicautis homo reus,
Huie ergo parce, Deus!
Человек, судимый за грехи.
Пощади же его, Боже! —
договорили, допели за хор облака, лужи и деревья. В следующий миг огненный змей пробежал по колонне, отра зился в лужах его перпендикулярный шоссе рукав. Огненный крест горел на дороге. Колеса, железки и всякий сор сеялись окрест.
Маргарита, рухнув на ближайшей опушке, собой накрыла ребенка у ног превратившихся в соляные столпы родителей.
Пламя бушевало в очках Бек-хана и его людей, в полировке машины.
Сторожиха на крыльце, до которого не достало пламя, выронила приспособленный флажок и перекусила поднесенный к губам свисток.
Пара машин осталась неповрежденной среди общего хаоса и мрака.
«Baby in car»[60] значилось на заднем стекле одной из них, хотя там и сидели пожилая чета и такса.
– Доброе дело номер раз, – усмехнувшись, произнес Бекхан.
Он снял очки.
В его раскосых темных глазах стояли печаль и решимость. Молчали остальные.
Маргарита показалась из леса. Она не пострадала, лишь жаром опалило пламя концы ее растрепавшихся, выбившихся из-под сползшей при беге косынки рыжих волос.
– Dona eis requiem. Amen[61], – прошептали травы и возопили камни.
– Аминь. Аминь. Аминь, – повторили за ними журавли и гуси, сойки и грачи, синицы и жаворонки.
– Аминь, – прошелестели муравьи, прожужжали пчелы и осы, прокаркали вороны, проплакала выпь.
Бек-хан сел на водительское место и повернул ключ зажигания. На обочине остался стоять маленький столбик с фанеркой. На ней было написано красным: «Я здесь».
Кровь и морская вода практически идентичны.
(Медицинский факт)Май 1942 года, Устье Лены, Якутия
Курт Эпфельбаум, ефрейтор кригсмарине, ловко подсек осетра. Спиннинг гнулся, леска звенела, и капельки воды, срывавшиеся с удилища, горели, как самоцветы. Рыба не хотела умирать и ходила кругами, но человек был сильнее. В последнем рывке, в смертной тоске, в заполняющем все и вся черном ужасе осетр подпрыгнул и яростно рванулся, мотнув головой, и человек поймал его в вовремя подставленный сачок.
– Гут! – удовлетворенно произнес Эпфельбаум и заурчал: – Паулине вар айн даме, айн даме, айн даме, айн цум пиканте даме, айн даме цум плезир!
– Цум-цум! – услышал он за своей спиной женский голос и почувствовал, как его прошиб ледяной пот – женщин здесь, в расположении секретной базы подводных лодок Третьего рейха, в Якутии, быть никак не могло. Затерянная в бесконечной поражающей, никем не исследованной пойме, среди десятков тысяч рукавов, ручьев, проток и проливов, укрытая и от человека, и от зверя в нехоженых, блеклых от лишая, вечных, помнящих восстание ангелов, шхерах, база служила пристанищем для хищных, рыскающих подо льдами, вечно голодных подлодок рейха на их бесконечном пути – в Японию, в Азию, к черту на рога, лишь бы подальше от пыльной, суетной, склизкой от крови земли. Моряк повернулся так, что башка чуть не слетела с шеи. В пяти метрах от него стояла девушка в штормовке поверх кухлянки, в солдатских штанах, с рюкзаком и трехлинейкой за плечами.
Курта резанули ее серо-голубые глаза – нет, не до смерти, не до увечья, лишь проступили на сердце капельки алого да вспух неглубокий надрез.
– Вы что, немец? – еще не понимая всего ужаса своего положения, спросила девушка. – Коммунист? Да?
– О, я, я, – ответил Курт и чуть передвинул запястье правой руки ближе к кинжалу, висевшему на ремне. – О, я, я.
– Антифашист? Рабочий? – настойчиво спрашивала девушка. – Из экспедиции? А что вы тут ищете, товарищ?
И тут она заметила две скрещенные руны «зиг» на петлицах. Глаза ее расширились, носик сморщился, и она захныкала, а потом заревела. Эсэсовский кинжал вспотел в ладони Эпфельбаума, и надпись «Моя честь – моя верность» навсегда отпечаталась на запястье. Но он был правильный солдат, Курт Эпфельбаум. Пролетев в прыжке эти пять метров, левой рукой схватив ее за шиворот, он занес правую руку с ножом и ударил девушку сверху вниз, по дуге, под ребра.
– Мама! – пискнула она, и дрогнула рука у ефрейтора, и отстранился с вечного венчального пути на свидание с кровью золингеновский клинок, лишь чуть царапнул кожу, прорвав кухлянку, и ослаб, и замер.
Что-то сместилось в атмосфере над поймой – в высоких белесых облаках, в невозможно синем небе. В восходящих струях чистого, сильного и свободного ветра, в ряби вод, сморщившихся, как простыня на брачном ложе, под поцелуями ветерка. В закуржавевшем в стынях мая ломком ягеле, в заледеневших колеях, в залубеневших следах, готовых растаять при первом взгляде обжигающего любовника-солнца. Высокий звук прошел над седыми шхерами, над зелеными омутами и светло-золотыми перекатами, над отвалами рыжей глины и затерялся на вершине Камня-скалы у раздела протока, над огромным, почерневшим от времен и непогод деревянным крестом, невесть кем и когда сложенным из огромных бревен, неведомо как втянутых на эту крутизну.
– Мама, – повторила девушка, – мамочка!
И повисла в так и не разжавшейся у ее ворота руке моряка.
Сентябрь 2006 года, Тикси, Якутия. Вечер
– Курить дай? – полувопросительно и с вызовом обратился ко мне рослый, стриженный наголо якут. Музыка в единственном поселковом кабаке «Севера» била по голове огромным ватным молотом, ухала утробно и рычала уже где-то в закоулках оглушенной, оболваненной души.
– Возьми, – кивнул я на пачку «Бэнсон энд Хейджесс», лежавшую на столе.
– Не, сам дай. – Якут смотрел не мигая.
– Рук нет?
Он поднес к моему лицу огромный кулак:
– Руки есть.
– Так в чем дело?
– Привычка с зоны, – откомментировал ситуацию оператор Белов, сидевший напротив, – Никогда не бери со стола, бери только из рук – мало ли…
– Что – мало?! – вскипел я. – Я же разрешил!
– А может, их до меня петух какой-нибудь трогал? – спокойно произнес якут, и я молча протянул ему сигареты.
Закон есть закон.
…Шалман гудел и звенел, якут кинул мертвый якорь у нашего столика, и я решил не считать, сколько бутылок паленой водки мы сегодня опрокинем. Просто из чувства самосохранения, чтобы, вспомнив утром, не умереть.
Нет, небеса не свились, как свиток, не осыпались звезды и не сгорела земля – непонятно мне и теперь, почему я заметил ее только сейчас, хотя она сидела в «Северах» и до нашего появления. Да и не было в ней ничего, чтобы поразить навылет, впрочем, поначалу я заметил только крупные ядра грудей под рыбацким свитером.
Было иное. К ней клеились – она отвечала. Ей наливали – она пила. Ее лапали – она спокойно отводила руки.
Но она не смешивалась с ними, как текут раздельно масло и вода. Она была с ними, но не была одна из них.
– Что, кореш, на Немку запал? – ощерился якут. – Смотри, паря, за ее и порезать могут.
Закусывали мы корюшкой – по локоть величиной, плакавшей прозрачным золотым жиром; ее можно было не жевать, а только глотать, глотать крупными ломтями, и она стекала в горло. Впрочем, вру. Конечно, вру – в горло стекала строганина из муксуна. Нарубленную длинными ломтями рыбу мы макали в соль и черный перец и отрезали кривыми ножами у губ. Дождавшись, пока она поднимется, я поспешил на крыльцо.
Тикси тонул в ледяной шуге, небеса лиловели у самых крыш пятиэтажек, и туман забивал глотку соленой ватой. О Тикси достаточно сказать только одно – там не растет ничего. Ни дерево, ни куст. И бурая глина сопок сливается с рыжьем ягеля, и вся земля имеет один цвет. Поэт бы сказал – багряный. А я говорю – рвотный.
– Пойдешь со мной? – спросил я ее в упор.
В Тикси выражаются просто, понятно и конкретно. В Тикси опасно быть неправильно понятым. Она смотрела на меня без улыбки.
Я зажимал двери плечами, и кто-то уже ломился в них изнутри и ревел.
– Пойду, – ответила она, и я перестал блокировать вход.
Какой-то кудлатый человек, вылетев из кабака, скатился по ступеням и, рухнув на четвереньки, зарычал в муках и пене. Я не стал смотреть, блевал он или хрипел.
Потом я дрался с ее пацаном – как водится, правильным, из тех, что круче только яйца, а выше только небо. Впрочем, спасибо ему за то, что не стал дешевить, – их было человек пятнадцать, и нас с Беловым бы просто размазали.
Мы уже выяснили, что сегодня она пойдет со мной, когда я услышал щелчок выкидухи.
Нож я снял перед дракой – все было по-честному, его держал Белов и по-любому не успел бы мне его перекинуть.
Похолодела спина и еще почему-то под левым соском.
– Двое в драку – третий в сраку, – отбив нож и головой отправив тщедушного пацана в угол, проговорил якут. – Базара такого, чтобы писать друг дружку, не было.
Утро.