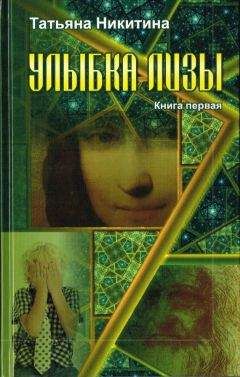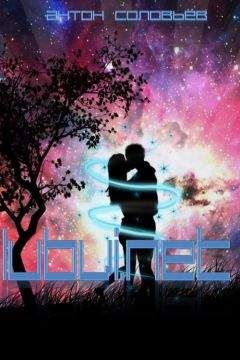Он подумал, что, наверно, прав монах и красота не всегда рождается от соотношения размеров частей лица или тела. Нельзя написать образ Богоматери с кортиджаны. Разве не порочная душа Элеоноры помешала другим увидеть на его картине святую Марию? Но какова же тогда воля и власть художника над природой?
А Джироламо продолжал:
– Поставь рядом двух женщин одинаковой красоты. Одна из них добра, нравственна и чиста, другая – блудница. В доброй светится красота почти ангельская, а другую нельзя даже и сравнить. Святая будет любима, на неё обратятся взоры всех, не исключая людей плотских! Прекрасная душа сопричастна красоте божественной и отражает свою небесную прелесть в теле человека. Все изумлялись красоте Пресвятой Девы благодаря той святости, коя светилась в ней, не было никого, кто по отношению к ней почувствовал бы что-нибудь скверное: к ней относились с величайшим благоговением…7
– Коли живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, в его власти породить их. Если он захочет увидеть вещи уродливые или шутовские, то и над ними он властелин и бог. Потому как живопись должна быть поставлена выше всякой иной деятельности, ибо она содержит все формы, как существующие, так и не существующие в природе, – возразил Леонардо.
– А как же музыка? – удивился монах, отчего изогнулась острым углом глубокая морщина, пересекающая лоб.
– Музыка всего лишь сестра живописи, ибо она есть предмет слуха – второго чувства после зрения, но живопись превосходит музыку во всем, поскольку не умирает сразу же после возникновения.
– Ну а поэзия?
– Живопись может единовременно охватить предмет в целом, тогда как поэзия должна переходить от одной его части к другой, поэтому только живопись и передаёт гармонию предмета, – ответил Леонардо и прибавил лапидарную фразу, к коим питал особую слабость: – Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат.
Ему показалось, что монах уже не слышал его, а думал о предстоящей проповеди во Флоренции.
– Сущность поэзии состоит в философии, в мысли, без которой не может быть истинного поэта. Если кто думает, что всё дело в дактилях и спондеях, долгих и коротких слогах, в украшении речи словами, тот, конечно, впадает в грубую ошибку. Цель поэзии состоит в том, чтобы убедить читателя посредством силлогизма. А силлогизм этот должен быть выражен изящно, ибо поэзия должна убеждать и услаждать в одно и то же время. Поскольку душа в высшей степени услаждается гармонией и певучестью, то древние и изобрели размеры стихов, дабы легче вести людей к добродетели. Возьмите Священное писание. Господь явил нам истинное красноречие правды: оно не останавливает нашего внимания на словах, но возносит наш дух, углубляет нас в самую сущность истины и дивным образом питает наш ум, свободный от земной суеты. В самом деле, чему служит красноречие, не достигающее предположенной цели? Чему служит корабль, разукрашенный и расписанный, который постоянно борется с волнами, но никогда не приводит путешественников в порт, а, напротив, удаляет их от него?8 – речь его, вначале спокойная, с каждой фразой делалась более пылкой. В тихом голосе слышался металл, а монах уже не сидел за столом, а стоял подле, сжимая руками край столешницы:
– Есть люди, претендующие на звание поэтов, но не умеющие делать ничего другого, как только следовать грекам и римлянам, повторяя их идеи. Они подражают формам и размерам их стихов, даже делают обращения к их богам, как будто мы не такие же люди, как они, и не имеем собственного разума и собственной религии.
Монах излагал мысли, давно мучавшие Леонардо: о тех, кто сыскал известность тем, что цитирует древних авторов и без меры гордится книжным образованием да знанием языков.
Джироламо продолжал говорить, забыв о собеседнике; синие глаза его потемнели и сверкали, как агатовые звёзды.
– Это не только фальшивое стихотворство, но и губительная язва для молодёжи. Я, конечно, постарался бы доказать вам это, если бы мысль моя не была ясна как Божий день: опыт, этот единственный учитель жизни, так ясно доказал весь вред, который происходит от такого рода стихотворства, что было бы решительно бесполезно лишний раз осуждать его. Но знаешь ли ты, что и сами язычники осуждали подобного рода поэтов? Разве Платон, превозносимый теперь до небес, не настаивал на необходимости закона, по которому такие поэты изгонялись бы из города за то, что они, ссылаясь на пример и авторитет нечестивых богов, в гнуснейших стихах воспевают скверные плотские страсти и нравственный разврат? А что делают наши христианские правители? Зачем они маскируют зло? Зачем не издадут закона, который изъял бы из города не только ложных поэтов, но и их творения, а также книги древних авторов, рассуждающие о блуде, восхваляющие ложных богов? Счастьем станет тот день, когда сии книги будут уничтожены и останутся только те, кои побуждают людей к добродетели…9
Леонардо слушал с величайшим вниманием и торопливо зарисовывал некрасивое лицо, ставшее прекрасным от страстной речи. Святой Иероним! Отшельник с мученическим лицом. Безумец, сгубивший себя в пустыне, иссушивший плоть во имя любви к Создателю.
– Лишь стремление к добродетели есть пища для души и тела, – осторожно добавил Леонардо, но не был услышан. Джироламо продолжал гневные обличения, будто ему внимали сотни неправедных поэтов:
– Даже между древними были поэты, презиравшие всё постыдное. Они пользовались своим искусством правильно, и я не могу и не должен осуждать их, но и этих лучших языческих поэтов следует изучать только при условиях здравого и крепкого христианского воспитания. Поэтому пусть не дают читать их молодым людям, пока оные не вкусят первого млека Евангельского учения, и пока последнее твёрдо не запечатлеется в их нежных умах. Дело вовсе не безразличное – направлять их по тому или иному пути в самом начале: это безмерно важно, ибо всякое начало есть половина всего предприятия. Пусть христианин, прежде всего, украшает себя добрыми нравами. Пусть будет он менее красноречив, лишь бы не оказаться недостойным имени Христова. Если бы поэт писал только гимны в честь религии, это, конечно, послужило бы к её блеску, но истинной пользы не принесло бы. Только дух живит, буква же убивает. Как же он может быть полезен религии? Пример бедной, простой и необразованной женщины, коя с коленопреклонением горячо молится, приносит душам гораздо более пользы, чем торжественные в честь Господа гимны поэта или философа, – и замолчал, сел на скамью, опустив голову на нервно переплетённые тонкие пальцы. Непостижимая трагичность исходила от фигуры монаха. Леонардо тоже молчал, изумлённый силой слов, произнесённых столь слабым голосом. – Я давно оставил все занятия гуманитарными науками ради наук более важных… – вновь заговорил Джироламо. Теперь он обращался к Леонардо: – Побудило меня вступить в монастырь страшное ничтожество света и испорченность людей: разврат, нарушения святости брака, обман, высокомерие, бесчестие, проклятия и кощунства всех родов дошли в свете до того, что ныне не находишь в нём честных людей. Я замечаю, в мире всё идет навыворот – всякая добродетель и всякие добрые обычаи погибают; я не вижу истинного света, не нахожу никого, кто стыдился бы своих пороков… Счастлив лишь тот, кто живёт хищничеством, кто тучнеет, упиваясь кровью других, кто грабит вдов и их малых ребят, кто ускоряет разорение бедных. Тот человек благороден и изящен, каковой обманом и насилием собирает богатства, презирает небо со Христом и думает только, как погубить ближнего, такими людьми гордится мир10.
Было в словах и негромком голосе оного столько страсти и непостижимой силы, что лишь немногие могли оставаться безучастными к ним. Отношения Леонардо с Богом были много проще. В редких молитвах своих он говорил: «Повинуюсь тебе, Господи, во-первых, ради любви, которую я должен по законным причинам к тебе иметь, и, во-вторых, потому, что ты можешь сократить или удлинить человеческую жизнь»11.
Ранним утром они разъехались в разные стороны: алчущий правды и справедливости монах Савонарола – с мечтой в душе о построении царства Божьего на земле – отправился в беззаботную Флоренцию; живописец Леонардо – на поклон к герцогу Милана, лелея в душе надежду, что там он наконец-то обретёт и признание, и славу, и уважение, и богатство, заслуживал кои по праву превосходства над остальными. В силу бесчисленных его талантов.
Глава девятнадцатая
Чечилия галлерани
МИЛАН. 1489 ГОД
Бедность ограждает и ограничивает наши желания и возможности, а богатство, как хороший слуга, угождает в их исполнении. Главное желание Леонардо – не думать каждодневно о хлебе насущном, а иметь толику времени для занятий приятных и занимающих мысли.
По приезду в Милан он вместе с Томмазо поселился на южной окраине. Окрест Порто Тичинезе издавна открывали свои мастерские живописцы и ваятели Ломбардии. Вскоре свёл знакомство с Амброджио де Предис1 и его братьями, державшими боттегу неподалёку. Джованни Амброджио служил при монетном дворе рисовальщиком портретных изображений и многое слышал о Леонардо – как восхищённое, так и нелестное, но истинное уважение испытал, убедившись самолично, что флорентийскому живописцу под силу несколькими мазками исправить портретную работу, придав ей законченность и смысл. Посему, когда монахи Братства Непорочного Зачатия заказали Амброджио картину для алтарной ниши церкви Сан-Франческо, он, прознав о безденежье, кое испытывал в ту пору Леонардо, предложил оному расписать центральную часть триптиха. Леонардо согласился с великой радостью и скорее, чем делал это обычно, – уже через год – представил завершённую работу.