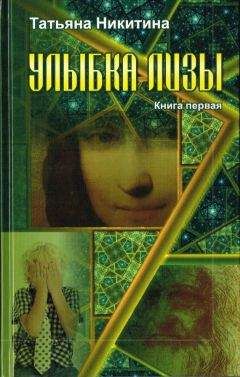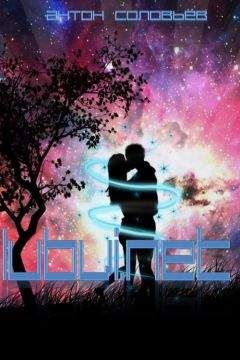– Но мне говорили о его ненадёжности, – сомневался Моро.
– Ваша светлость, не поскупитесь на жалованье, кое соответствовало бы его таланту, и не будете разочарованы. Видели ли вы его «Мадонну в скалах» для запрестольного образа в церкви Сан-Франческо? Ничего подобного в Милане ещё не было.
Лодовико полагался не на свой вкус, а на мнение людей, имеющих немалый авторитет в искусстве. Когда Моро увидел «Мадонну в скалах», он тотчас пожелал заказать Леонардо портрет новой возлюбленной – Чечилии Галлерани5, а оный получил должность архитектора и инженера при дворе с годовым жалованьем в пятьсот дукатов и заказ на изготовление конной статуи Франческо Сфорца6, а ещё на гидротехнические работы по строительству оросительных каналов в засушливых землях Ломбардии.
* * *
– Его лицо напудрено мраморной пылью так, что он похож более на булочника: весь покрыт мелкими осколками мрамора, словно на спине его лежит мука, а жилище наполнено пылью и щебнем. Совсем по-другому у живописца… Вот, как я сейчас, сижу, удобно расположившись перед своей картиной, хорошо одетый, и вожу легчайшей кисточкой7, – Леонардо умолк на несколько секунд, подняв глаза от мольберта, наблюдая, как едва заметное глазу сокращение кругового мускула нежного рта вмиг изменило выражение лица. Затем он нанёс кистью несколько мазков и вновь продолжил:
– К нему приходят друзья, они играют музыку или читают прекрасные стихи, и это можно слушать с наслаждением, ведь не мешает стук молотка либо иной шум, – улыбнувшись, закончил Леонардо ответ на её вопрос: «Почему он предпочитает живопись труду скульптора?».
– Кого же из поэтов предпочитает стуку молотка художник Леонардо? – отозвалась Чечилия Галлерани, чей портрет в новой голландской манере – маслом по дереву – он писал уже несколько недель.
– Только настоящих, тех, кто творит мифы, а не рассуждения, – ответил он фразой из Платона.
Она рассмеялась прелестным смехом и весело откликнулась:
– Стало быть, Вам по душе стихи той, что покорила сердце Платона? – «Девять лишь муз называя, мы Сафо наносим обиду. Разве мы в ней не должны музу десятую чтить?» – нараспев прочла она, бросив на него лукавый взгляд.
Леонардо лихорадочно подыскивал слова, чтобы ответить ей приятностью. Память подсказала строки столь любезной её сердцу гречанки Сафо8:
– «Между дев, что на свет солнца глядят, вряд ли, я думаю, будет в мире, когда хоть бы одна дева столь мудрая».
«Если я получаю удовольствие от ума женщины, общаясь с нею, то она кажется мне особенно привлекательной», – подумал он.
Щёки Чечилии приятно порозовели, но тень грусти промелькнула в прекрасных глазах.
– «Я роскошь люблю; блеск, красота, словно сияние солнца, чаруют меня… Те, кому я отдаю так много, всего мне больше мук причиняют, – прочла Чечилия пленительным голосом, – но своего гнева не помню я, как у малых детей сердце моё…»
– Чечилия, солнце моё, хватит уже стихов, давай-ка лучше послушаем басню, – прервал её Лодовико, капризно выпятив губы. Его грузное тело заполняло кресло в центре залы угловой башни.
Моро был груб, но вовсе не от злой натуры, а от изъянов в воспитании. Красотой и образованностью новой возлюбленной он гордился, как редким драгоценным камнем хорошей огранки или изящной вазой из цельного куска изумруда. Чечилия ведь так чудесно пела и музицировала на виоле, слагала стихи на латыни и греческом, изъяснялась по-французски, и гости Сфорцеско не уставали восхищаться её остроумием.
Два последних года жизни она провела в монастыре, где и повстречал её Лодовико Моро. Словно дорогой бриллиант в короне, украсила она его двор. Чечилия всего лишь дочь флорентийского посла. В венах её не струилась благородная кровь королей, герцогов и баронов. Лодовико Моро и сам был не слишком высокородного происхождения – сын кондотьера и внебрачной дочери герцога миланского Филиппа Висконти, но потому и желал возвысить наследников своих, добавив им благородной крови. Пока в Ферраре подрастала маленькая невеста – герцогиня де Бари Беатриче д’Эсте, обручённая с ним ещё в младенчестве, в Кастелло Сфорцеско9 менялись фаворитки, и по залам дворца бегали уже двое узаконенных бастардов10: сын Леоне и дочь Бьянка – дети от женщин, в коих он был влюблён. Ещё до встречи с Чечилией.
Лодовико, страстный по натуре, не мог долго любить одну женщину, но всякий раз, когда влюблялся, делал это искренне и пылко.
Леонардо отложил кисть – не мог решить, как передать грациозность жестов и обворожительность подвижного лица Чечилии в моменты, когда она читала стихи или внимала собеседнику. Красота оной в неуловимом сокращении мышц, чарующей перемене выражения глаз, губ, бровей, отражающих её душу.
В зале с высокими окнами, обращёнными на северо-запад, всегда сумрачно, особенно зимой. Леонардо попросил девушку встать в пол-оборота к окну, дабы послеполуденные лучи света падали не прямо, а мягко освещали нежное лицо, не создавая грубых теней и бликов. Полумрак в глубине залы добавил романтичности её облику и подчеркнул роскошь платья из дорогой аксамитовой ткани. Но руки! Она беспрестанно складывала их на животе, уже изрядно заметном, о чём Леонардо думал с досадой. Ему неприятно знать, что она носит под сердцем ещё одного бастарда Моро. И он не желал изображать на портрете беременную Чечилию. Она должна быть юной, нежной, целомудренной, как нераскрывшийся бутон лилии. Леонардо огляделся, подыскивая решение. И нашёл. По мраморным плитам анфилады залов, обнюхивая тёмные углы, пробежал прирученный хорёк, коих в замке держали для ловли бесчисленных крыс, шнырявших в закоулках дворца. Блестящим белым мехом, будто выпавший снег, хорёк похож на зимнего горностая. «А ведь он удачно прикроет живот», – повеселел Леонардо.
– Донна Чечилия, возьмите в руки хорька, вот так, – излишне волнуясь, проговорил он и, поймав зверька за загривок, вложил ей в руки. И вздрогнул, как обжёгся, коснувшись шёлковой кожи, – это… придаст вашему образу… – остановился, не досказав.
«Но немеет тотчас язык под кожей, быстро лёгкий жар пробегает, смотрят, ничего не видя, глаза, в ушах же – звон непрерывный…»
Её глаза не отпускали. Между ними лишь тёплое тельце зверька. Их руки перебирали белоснежный мех, а пальцы вновь соприкоснулись. И всё вокруг засверкало, заискрилось от чувства, рождённого в сию минуту, неведомого обоим ранее.
– Леонардо, ну, скажи мне, зачем ей хорёк? – раздражаясь, из глубин кресла напомнил о себе Моро.
– Ваша светлость, заметьте, сколь необычайно похож он на горностая, что на вашем гербе, – нашёлся с ответом Леонардо, возвращаясь к мольберту.
– Превосходная мысль, – остался доволен Моро. – Ха-ха-ха, ты слышала, Чечилия, я буду вместе с тобой на портрете. Обними меня крепче, дорогая! Я горностай, я твой снежный горностай, ха-ха-ха…Чечилия, ха-ха-ха, – он утирал шёлковым платком бегущую по холёной щеке слезу. – Леонардо, в прошлый раз ты обещал рассказать одну из твоих поучительных историй, – потребовал Лодовико, всхлипывая от смеха.
«Как-то Бритва выскользнула из своей ручки, что служила ей ножнами, и легла на подоконник. Увидела она, как солнце заиграло на её теле, – начал рассказ Леонардо, – и, узрев себя в этом сиянии, великою гордостью преисполнилась. И презрительно молвила она о своём ремесле: «Никогда не возвращусь я в цирюльню! Да хранят боги от такого унижения мою сияющую красоту! Что за бессмыслица ползать по намыленным подбородкам глупых крестьян? Низкая работа! Для того ли сотворено моё тело? Клянусь богами, нет! Спрячусь я в укромное местечко и проведу там жизнь в тишине и покое». Так она и поступила. Проведя некоторое время в своём убежище, Бритва в один прекрасный день вновь вышла на свет божий. Но тут – о ужас! – она узрела что стала похожа на старую заржавленную пилу. Солнце уже не играло на её нечистом теле. Бесполезно было теперь раскаянье и напрасны причитания. «О, я поступила бы умнее, – стонала она, – когда отдала бы своё острое, а ныне, увы, погубленное лезвие в услужение цирюльнику! Куда девалось моё блестящее тело?! Горе мне, эта отвратительная ржавчина коварно разъела его!»11 – Леонардо рассказывал басню, подолгу задерживая взгляд на Чечилии. Пользуясь правом живописца, он мог это делать сколько угодно, не рискуя навлечь гнев герцога.
Зверёк вцепился когтями в бархатистую ткань рукава Чечилии. Длинная нить чёрного жемчуга, дважды обвив стройную шею, убежала в вырез платья. Она внимала Леонардо, а чуть заметная улыбка играла на губах. Что ожидало её в монастыре? Ненужным хламом пылились бы там красота, ум и молодость. За молебнами, в тишине и покое ржавчина времени источила бы их. Её удел – роскошь, яркий свет и солнце, а келья монастыря сродни заточению в подземелье. «Я роскошь люблю; блеск, красота, словно сияние солнца, чаруют меня…» Леонардо, почувствовав душевное смятение юной дамы, рассказывал ей только что придуманную историю. Он желал избавить её от смущения и тревоги, порождённой недолговечным и зыбким положением фаворитки опекуна герцога Милана.