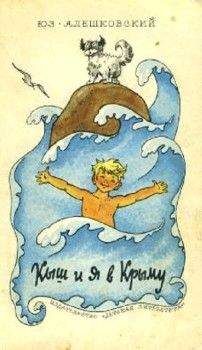И он правда очень старался, и все думали, что он вундеркинд и что ему все так легко. И он старался еще сильнее, изо всех сил. Его хвалили. По телевизору показывали. В разные страны начали возить. И он привозил матери подарки: всякие кухонные приспособления, чтобы ей легче было и чтобы она больше не гробила себя на кухне, а то она всегда соседке повторяла, что кухня сожрала ее талант и что ее муж и дети вместе с едой едят ее собственную жизнь. Он в раннем детстве не мог есть из-за этого, чувствовал себя убийцей.
Он был красивым мальчиком, все говорили. Мать повторяла: «Он мой, русачок. И гордилась, что имя ему дала настоящее, русское, у них в поселке несколько старых дедов были с таким именем – Матвей. Муж, правда, как-то спросил, а как же, мол, Евангелие от Матфея? Евангелист тоже, значит, ваш, русачок, был? Но она отмахнулась:
– Ой, умный какой! Там Матфей, а тут Матвей – разница!
И он все равно любил отца, хотя не хватало смелости любить в открытую. Он любил его глазами. Смотрел, когда был уверен, что тот не видит. Ему хотелось походить на него: ему нравились его руки с длинными пальцами, его сутулость, его молчание в ответ на материнские крики. Он чувствовал в этом силу и был благодарен отцу, что тот молчит. И еще ему хотелось заглянуть в его листочки, узнать, о чем он там пишет, про что думает. Но листочки отец всегда уносил с собой, так он никогда ни слова и не прочел.
А потом он поехал учиться в Италию. На целый год. Ему было четырнадцать лет, и все сбывалось, о чем говорила мать: он будет ездить по всему миру, и все будут слушать его, любуясь и восхищаясь. У него будет много денег, он их всех вытянет из бедности. Тогда мать перестанет пилить отца и отчаиваться, а отец когда-нибудь прочитает ему все, что написал. Как равному. Как мужчина мужчине. Надо было только в Италии хорошо учиться, чтобы его заметили, оценили.
Италия была спокойная и ненавязчивая. Он-то думал, что итальянцы темпераментные, горячие, а они держались прилично, ровно, по-доброму. А им все восхищались. На следующий день после его первого сольного концерта ему передали красиво упакованную коробочку, в которой был старинный серебряный браслет и записочка: «Я хочу, чтобы ты вошел в мою семью как сын. Адвокат…» Подпись была неразборчивой, но на визитной карточке были и имя, и адрес, и телефон.
В следующий уик-энд адвокат повез его на свою виллу. Красивая машина мягко ехала по серпантинной дороге вдоль кипарисов, магнолий и пальм. Дом оказался громадным. Навстречу им выкатился маленький толстый бульдожик, а за ним вышла маленькая стройная женщина с мальчишеской прической.
– А где же Соня? – спросил адвокат.
– Убежала к подружке. Стесняется.
Женщина приветливо улыбалась мальчику, который про себя привычно отметил странность имени адвокатской дочери. Вроде не итальянское имя Соня. Неужели и здесь? А впрочем, какая ему разница? Главное, чтобы ему все здесь были рады.
«Вот бы и правда быть им сыном. Жить в этом дворце. Гулять по этому саду. Загорать на этой лужайке и быть беззаботным, и убегать с друзьями. И не думать о том, что надо спасать свою семью от нищеты, вытягивать их всех из уродливой вонючей жизни своими силами».
Адвокат показывал ему дом, оранжерею с орхидеями, ванну джакузи, старинную картину, копия которой висит в музее. Потом все ужинали вместе с невзрачной Соней, которой – а чего: взрачная, невзрачная – все равно все это достанется. Потом извлекли из багажника инструмент и наслаждались игрой своего нового русского сына.
Ему выделили прекрасную комнату с огромной кроватью, балконом, выходящим в сад, и даже с собственной ванной.
Адвокат забирал его каждую пятницу, вез на виллу, а по субботам всей семьей они отправлялись в какой-нибудь прекрасный город или к морю, обедали в красивых ресторанах, где официанты обращались к нему как к взрослому – без подобострастия и с уважением.
Он стал привыкать к своей итальянской семье. И все же удивлялся: адвокат с женой никогда не ссорился, и она на него не орала, у них даже внутри не копилась злоба друг на друга, уж это он бы почувствовал. Они жили каждый по-своему, потихоньку, и друг от друга не уставали, и ни в чем один другого не винили.
Он почти не думал о тех, кого оставил в Москве, знал, что еще успеет о них надуматься, для них наработаться, а сейчас отдыхал от них душой, набирался сил.
В один из уик-эндов его повезли в огромный магазин и купили все новое: ботинки, брюки, свитера, даже трусы и носки.
– Я всегда мечтал о сыне, – объяснял адвокат слегка смущенному мальчику.
А тот, хоть и стеснялся немного – уж слишком щедрыми были к нему эти все-таки чужие люди, но любовался своим отражением в зеркале и вдруг отметил, что руки-то у него отцовские, и элегантная сутуловатость от отца, и профиль. И вдруг бесстрашно (вдали от матери) порадовался этому сходству, и свободу ощутил, и веру в будущее. Теперь могло быть только лучше, он не сомневался.
В следующую пятницу они вдвоем с адвокатом поехали к морю – жена с Соней улетели в Майами на неделю.
– Мы будем развлекаться, как настоящие мужчины, – пообещал адвокат.
Они сняли номер в шикарном отеле. Посреди стояла невиданных размеров кровать. Они по очереди приняли душ и завалились спать – несколько часов дороги начисто лишили сил.
Он спал крепко в удобной душистой постели. Ему снилось теплое море, что он лежит на волнах и они его покачивают, баюкают. А потом он понял, что это его укачивает, ласкает отец, чего он никогда не делал наяву (разве что в раннем детстве). И вдруг он осознал, что это не сон, что не отец прижимает его к себе, и сердце его упало, он закричал по-русски, по-матерински:
– Ты что, козел?!
Но адвокат требовательно обнял его, и он понял, что без этого он останется совсем один и опять будет жить в мире без любви и покоя. И уступил. Как привык уступать матери, когда хотел, чтобы она была доброй к нему.
«Я уже никогда не буду таким, как прежде», – думал он, плача, ожесточенно смывая с себя грязь под душем.
Адвокат был весел и сказочно щедр. Он баловал своего Маттео, как мог, и тот уже не стеснялся, принимая подарки, – это был честный обмен, не за так.
Домой, на каникулы, он поехал с огромным чемоданом подарков. Он привез всем дорогую, достойную одежду – в его новой семье в этом толк знали, – и мать приняла это как должное, не задумываясь, откуда все это у ее мальчика, живущего на скромную студенческую стипендию для неимущих. Так и должно было быть, она же говорила.
Отец только раз надел свои обновы, когда жена заставила померить. Сразу стало видно, какой он красивый, утонченный. Но мальчику, повидавшему уже много людей в дорогих мужских костюмах, было видно и другое: отец был изможден, неухожен. Для такой одежды надо еще изнутри светиться благополучием, иначе, как бы хорошо она ни сидела, все равно будет как с чужого плеча.
Отцу уже совсем не нужны были эти вещи. Он задумал другое. Мать с детьми поехала в деревню, показаться деду с бабкой. Когда вернулись, его уже не было. Сын сам вынимал из петли твердое, холодное, как мрамор, тело и, веря этому безнадежному холоду, все-таки шептал: «Папочка, не надо, папочка, не умирай».
И блокнотиков его со стихами нигде не было. Новые вещи лежали нетронутыми, с ярлыками. А на них – записка (знал, куда положить, тут-то обязательно найдут, увидят): «Сыночек, береги сестру. Ты уже настоящий мужчина. Обо мне не думай. У меня теперь все хорошо. А ты – будь счастлив здесь».
Ни одного прощального слова матери не было. Ее это задевало не меньше, чем выбор отца. На следующий день, оправившись от шока, она принялась поносить покинувшего ее мужа, как делала это много лет, не стесняясь детей и его присутствия.
Мальчик не пропустил мимо ушей ни одного ее слова, хотя раньше это ему всегда удавалось. Он чувствовал себя настоящим мужчиной, как попросил отец. Теперь он понимал, что поток ее злобы может остановить только грубая сила, как раньше ее жестокий напор заставлял его играть все лучше и лучше. Она стояла к нему спиной, без умолку проклиная свое прошлое. Он взял со стола сковородку и со всего размаху ударил по широкой мягкой спине. Сковородка была легкая и погнулась от сильного удара.
Спине ничего не сделалось. Наступила тишина. Мать мелкими шажками, по стеночке, выбежала из кухни. Он сел, обхватив голову руками. Будто издалека доносился до него истерический материнский монолог.
«По телефону жалуется кому-то», – догадался он.
Он страшно устал и хотел только покоя. Тишины. И даже обрадовался, когда приехала за ним «Скорая» и под назойливые причитания увезла его в дурдом, к психам. Дурдомом мать всегда грозила отцу, когда ей надоедало смотреть, как он молча исписывает свои листочки.
Все сошлось на нем: обида родителей, копившаяся годами, ударила по их единственной надежде.
Его кололи несколько раз в день, и весь мир отдалился, затих. Внутри было глухо. На несколько часов днем приходило подобие пробуждения, и тогда он должен был играть свои музыкальные упражнения – мать не собиралась отступать от своих планов. А он теперь стал писать стихи. Ему много чего приходило в голову: пространство переливалось во время, он мог свободно перемещаться в бесконечности, которая стала понятной и не пугала.