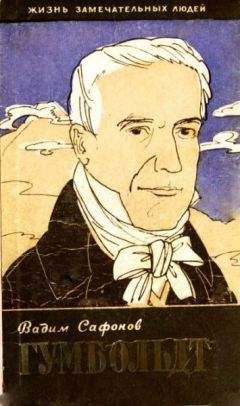Издалека, немного наискосок был виден наш дом, было видно мое окно.
На окне стоял цветок. Я не знала, как он называется. Про себя я его звала «толстолистка». Красивый, вечнозелёный, с толстыми, как монетки, листочками. И такими же блестящими, только не серебряными и не медными, а зелеными. Какие глупые мысли приходят мне в голову. Госпожа Антонеску говорила мне, как называется этот цветок, в том числе и по-латыни, а я забыла. Как было удобно, когда она была рядом. Можно все спросить, и от этого кажется, что сама знаешь все. Может, я действительно тогда все знала, когда она была рядом. А сейчас ее нет, и я стала знать меньше. Где она сейчас? Уже два года, наверное, я про нее ничего не слышала. Что она? Вышла замуж? За какого-нибудь вдовца со взрослой дочерью? Или нанялась гувернанткой к другой девице? Или просто живет одна, потихонечку проживая скопленные деньги и не видя никакого будущего перед собой? А если честно – давайте признаемся: точно зная, что никакого будущего у нее больше нет. Впрочем, у нее его и раньше не было, когда она поступила к нам работать гувернанткой. Какое будущее у гувернанток? Даже смешно. Разве что самое пошлое, мещанское, бедняцкое. Но ведь госпожа Антонеску не сможет после десяти лет жизни в имении среди аристократов и слуг, которые прислуживали в том числе и ей, проживши десять лет, можно сказать, почти членом семьи самих Тальницки унд фон Мерзебург, она же не сможет переехать на бедную окраину и выйти замуж за простого честного труженика. То есть смочь-то она сможет, но боже мой! И тут я чуть не заплакала от жалости к госпоже Антонеску. Но, боже мой, какая это будет тоска! Я заплакала так, что у меня слезы закапали на городскую газету, а официант спросил:
– Барышня, вам принести воды?
Я махнула рукой и продолжала горько фантазировать дальше.
И никакой честный труженик не возьмет госпожу Антонеску, потому что среди плебеев понятия чести гораздо более строги и жестки, чем у нас, – это мне папа много раз говорил и он, должно быть, прав. Я не знаю, если говорить серьезно, на самом ли деле у госпожи Антонеску был роман с Генрихом – папиным камердинером, или я себе все это сочинила. Наверное, конечно был. Ведь госпожа Антонеску живой человек, нормальная женщина. А я уже в двенадцать лет, а в четырнадцать уж точно, из разных книг узнала наверняка, что женщине в зрелые годы совершенно невозможно жить без этого. Ну, насчет Генриха не знаю, повторяю. Но вот в чем я уверена точно, так в том, что госпожа Антонеску не была старой девой. Да, она же говорила, что у нее есть дочь, моя ровесница. Но тут она врала, наверное. Хотя кто знает. Может, у нее что-то было или до того, как она пришла к нам на службу, или во время службы у нас, особенно зимой, потому что папа довольно часто отпускал госпожу Антонеску на выходные дни или выходные часы: в имении госпожа Антонеску имела возможность в одиночестве бродить по лугам и перелескам с блокнотом и сачком для бабочек (и это было в порядке вещей), а в городе нельзя же ее запереть в четырех стенах. И не было у госпожи Антонеску жениха – какого-нибудь прапорщика колониальных войск, может быть, даже подпоручика, чтобы он служил где-нибудь в Африке, и они бы писали друг другу письма и встречались примерно раз в год и ждали бы, пока он получит капитанскую звезду, орден и дворянство, а она закончит воспитание барышни Тальницки унд фон Мерзебург, и тогда они соединят свои судьбы и уедут жить вдвоем. Да хоть в ту же Африку, где у них будет своя ферма – и писать мне оттуда письма с красивыми марками, на которых нарисованы слоны и верблюды…
Но нет, не было ничего подобного у госпожи Антонеску.
Я вдруг подумала – а может быть, отыскать ее и отдать эти деньги ей? Или не все – но хотя бы половину. Или какую-то часть. Ну, или подарить ей что-нибудь приятное и полезное. Шелк на платье или ботиночки деми-сезон. Или хотя бы пригласить в кафе и угостить кофе со сливками, с мороженым и рюмочкой ликера.
Я сквозь слезы захохотала сама над собой.
Какая же я на самом деле скряга, негодяйка, мерзавка и просто подлая тварь! Как в течение двух секунд (а может, и того меньше) желание подарить нечаянно свалившиеся на меня деньги одному из самых дорогих и любимых людей – скукожилось в четыре тысячи раз. Это же подумать только – в четыре тысячи раз! От восьми тысяч крон до двух, от небольшого, но существенного капитала – до кофе с ликером! И добро бы, это было мое наследство! Или (я не представляла себе, как это бывает, но читала в книгах) заработанные честным трудом деньги. Или (это уже проще и понятнее) доход от имения. Нет. Просто, найденный на крыльце кошелек. Даром получили – даром отдавайте, сказано в Священном Писании. А я не только отдать, я и поделиться как следует не могу с моей любимой, с моей драгоценной госпожой Антонеску. Руки ее, как она ночью меня переодевала, потную рубашечку снимала, а сухую надевала, я помню. Игры с ней на лугу, классы в солнечной нашей комнате в имении я помню. Запах ее, чудесный свежий соломенный запах взрослой женщины, проводящей месяцы на солнце, в аллеях и садах, я помню. И голова у меня кружится от благодарной любви. А вот даром отдать даром попавшее мне в руки не могу. Не хочу. Ну желаю. Скупердяйничаю. Значит, никакая я не христианка. И вообще, положительно мерзавка. Конечно! В день дедушкиных похорон я мечтала о своем любимом десерте, о желе с орехами на тестяной лодочке… «Мерзавка! Мерзавка!» – прошептала я, вытерла нос платком и подумала, что с этим надо как-то жить. Потому что справиться с этим нет никакой возможности – чудес не бывает. Это было как осмотр врача. «Извините, барышня, вот вы все жаловались на одышку, что, бывало, в горку невысоко подниметесь, а дышать трудно, в грудке теснит и сердечко гулко-гулко бьется… А у вас, милая барышня, порок сердца». Что же делать?
Ничего не делать.
Как-то с этим жить. Я вспомнила одну соседскую девочку, внучку графа Линцдорфа. Она не бегала со всеми, и за ней все время ходил строгая гувернантка, держала ее за руку. «У барышни Линцдорф порок сердца», – объяснила госпожа Антонеску. «Что с ней будет? Она скоро умрет?» – «Не знаю, – вздохнула госпожа Антонеску. – Может, и нескоро. Но ей придется научиться с этим жить…»
Я продолжала смотреть в окно.
Мимо окна опять прошел этот самый господин Ничего Особенного. А я не желала думать, чего это он болтается туда-сюда. Меня это совершенно не касалось. Я даже с какой-то злостью о нем подумала: «Ну вот честное слово – иди своей дорогой. Что ты здесь прогулки затеял, у нас под окнами? Может, высматриваешь чего? Может, полицию позвать?» Наверное, он услышал мои мысли, потому что тут же скрылся за углом и больше не показывался. Действительно смешно. Штефанбург ведь большой город, есть где пройтись, не обязательно перед окнами кафе, где сижу я.
Я развернула газету, потом перевернула последнюю страницу.
Несколько моих слез темными пятнышками домокли до конца этой маленькой, но толстенькой (кажется, восьмистраничной) газеты. Я посмотрела, куда попала эта темная точка. Это была колонка объявлений. «Сдается квартира одинокой женщине, или пожилой паре без детей, или двум студентам». Странное какое приглашение, – подумала я. Пожилая пара без детей – это явно требование тишины. Одинокая женщина может превратиться в пару с ребенком, а два студента – это попойки и девицы веселых нравов. Не желаю иметь дело с хозяином-дураком, сказала я и перевела глаза на следующую строчку. Там сдавалась просто небольшая квартира на улице Гайдна. Красивое название. Кажется, я знала эту улицу. Ах, нет. Я знала улицу Моцарта, которая была слева от оперного театра. Где же была улица Гайдна? Даже любопытно. Я выдрала из газеты клочок с объявлением, позвала официанта, дала ему еще десять крейцеров и велела вызвать извозчика.
Улица Гайдна оказалась не так уж далеко, но на другой стороне, в районе Хох (или Домб на местном наречии). Честное слово, я впервые узнала об этом от извозчика. Как это странно. Мне шестнадцать лет. Как себя помню, я провожу зиму в Штефанбурге. И только сейчас узнала, что, оказывается, у этого города есть второе имя. Оказывается, на старом местном языке он называется Домбальфельд. От слова «домб» – гора и «альфельд» – низина. А сам старый местный язык называется «эльшонельв».
Надо было переехать через мост, оставив сзади главную Эспланаду, повернуть направо, объехать скалу, на вершине которой была древняя церковь и монастырь Святого Стефана, а ниже лепились совсем старинные домики – то есть надо было объехать Штефанбург в собственном, старинном, точном смысле слова, – а потом свернуть направо, проехать под мостом, соединявшую спуск со скалы с подъемом на другую гору, уже не каменистую, а зеленую, поросшую кудрявыми деревьями, сейчас коричнево-золотыми, потом повернуть налево, еще один поворот – и вот она, улица Гайдна, этакой террасой-полукругом идущая вокруг этого холма. Поэтому у улицы Гайдна была только одна сторона – ближе к холму, а другая сторона была обрывом, который был огражден невысоким парапетом из серого известняка. А ниже были черепичные крыши – уже другая улица, не знаю, как называется.