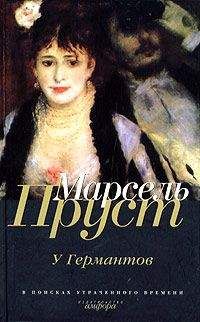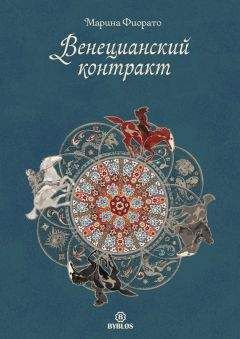Почему-то желание это ему показалось неисполнимым.
А если бы – прочерк молнии! – если бы фантомный Михаил Вацлович не опоздал к отплытию философского парохода и успел передать письмо?
Если бы затем по льду залива отец, неугомонный, влюблённый, с юных лет риск автоматически возводивший в норму, действительно сбежал бы из опостылевшего – голодного и холодного – Петрограда в Финляндию и…
Как просто: если бы всё именно так – с очевидной незатейливостью – произошло, то Михаил Вацлович бы не встретился через полтора десятилетия с мамой, не похитил бы её у отъехавшего на престижные киносъёмки Черкасова и, разумеется, у них бы не родился сын. При изменившемся так раскладе его, ныне благополучного и респектабельного ЮМа, не получилось бы, божественный отбраковывающий карандаш бы небрежно вычеркнул его из небесных предварительных списков на соискание души, а небесная бы проекция его земного облика из кожи, мяса, костей – за невостребованностью её – испарилась бы и, значит, попросту говоря, его бы ни в каких ипостасях не было.
Да, проще-то некуда, его бы не было, не было бы и книг его – Германтов, глядя в погасший экранчик ноутбука, поразился, что такая банальность не только смогла посетить его голову, но и способна причинить боль: конечно, его бы не было.
И кто бы заметил его отсутствие?
Никто.
И, само собой, никто не мог бы заметить отсутствия его книг, и ничуть по причине их отсутствия не обеднело бы мировое искусствоведение.
Смешно: без присутствия и отсутствия не могло бы быть.
На нет ведь и суда нет.
И значит – тоже банальность, – без него, ЮМа, не было бы привязанных к нему лиц, тайн, не было бы сменяемых картин сознания, этих непрестанных вернисажей ума и чувств, доказывающих ему, что он жив. Не было бы его – и, значит, не было бы даже этой розовеющей зашлифованной лагуны, этой набережной.
И что же – утешаться тем, что что-то ведь возникло бы взамен него со всеми его исключительными, но несостоявшимися терзаниями-впечатлениями от несостоявшейся жизни? Наверняка бы переменилась судьба Михаила Вацловича: удрав по льду в Финляндию и – далее, далее, уж точно он не отправился бы на премьеру «Маскарада», не узнал бы про донос, не поспешил бы предупредить об опасности Мейерхольда. Но – с минуту повозился с отцовской линией жизни: продлевал, обрывал – на нет суда нет, и поэтому нельзя угадать теперь, что случилось бы с отцом – при том, разумеется, что он бы не был германтовским отцом, – во французском гадюшнике эмиграции. Возможно, что он, верный себе, ввязался бы сам или был бы вынужденно втянут в какие-то политические авантюры и проиграл бы свою жизнь тому же НКВД, чьи агенты хозяйничали тогда, перед войной, в Париже, возможно, погиб бы в годы немецкой оккупации; однако возможно, что он бы и выиграл от резкой перемены участи и остался бы – вопреки смертельным угрозам и передрягам – жив.
И так ли, иначе, но если бы Михаил Вацлович удрал по льду залива в Финляндию, переменилась бы, само собой, и судьба Ларисы Валуа… А что? Она и Черкасов составили бы эффектную пару, жили бы поживали, добра наживали.
Вообразил: да, очень даже хороши.
И попробовал вообразить, что мама – вовсе не его мама.
Она – Лариса Валуа, та самая Лариса Валуа, казачка-француженка, оперная певица, но – чужая ему?
Кому – ему, если его бы не было?
Ох… тряхнул головой.
Спасибо, большое спасибо Загорской и Бызовой: в своих запросах они невольно многое ему сообщили, благодаря им он многое узнал об отце, так?
Так, так.
Спасибо за невольный информационный залп.
Спасибо им, прагматически озабоченным, спасибо стимулу-аукциону: конечно, конечно, если бы аукциона не было, его стоило бы придумать…
Однако – испытывал ли он облегчение от того, что внезапно, скопом, столько нового узнал об отце? Какое там облегчение! Напротив, он ощущал, как нагнеталось в нём угрожающее давление, природу коего он не мог понять. Ко всему, чем больше Германтов размышлял о неожиданно свалившихся на него сообщениях, тем явственнее обнаруживался в этих любезных сообщениях как бы изначально скрытый укор. В самом деле: многое он и сам мог бы узнать, если бы захотел… Да, голые факты не имеют срока давности и раньше ли, позже, но сдаются на милость любопытству, поисковой настырности, которых, увы, он так и не проявил.
Эгоизм, равнодушие? Сколько помнил себя, он был всецело занят собой.
Однако – так ли, иначе – пусть и с опозданием лет на сорок, факты – перед ним, на экране.
Но сами по себе факты – лишь сухая констатация того, что имело место.
А вот что-то более существенное – что-то незримое, но существенное, что-то окутывающее факты – в отношениях отца и матери он смог бы узнать-понять, если бы этого захотел, по-настоящему захотел?
Нет, нет – не смог бы.
И в том, что было потом между мамой и Сиверским – почему ей было так больно? – не сможет он разобраться.
Это как если бы сейчас Игорь захотел бы хоть что-нибудь понять в его давних отношениях с Катей.
С тёмного экрана на Германтова глянули гипсовые глаза.
И уже много-много глаз на него смотрело.
И взгляды, словно стрелы, летевшие с разных сторон, пронзали его.
Стрелы-взгляды, информативные стрелы-взгляды, прицельно летели к нему отовсюду, не увернуться – он был беззащитен.
И как очутился он в этой точке – магнетичной точке притяжения взглядов, – здесь и сейчас?
И – при этом – в точке схождения мировых силовых линий?
Он что, центр мира?
Здесь и сейчас – да, центр.
И всё, всё в мире, все мелочи мира и глобальные маховики, имели к нему, именно к нему, отношение.
Казалось даже, что к нему одному: по экрану его ноутбука всё ещё заведённо бежали в никуда строки, хотя он их не читал.
Загорская? И Бызова, Виктория Бызова… Помнится в школе, в классе Тольки Шанского, учился Бызов, да, Антон Бызов, плечистый такой, да, молотобоец… Но какое это имело теперь значение?
Между прочим, одна из бегущих строк могла бы испортить настроение всё ещё прогуливавшемуся по набережной Вольману: в петербургской больнице, отрешённо поведала только что убежавшая за край экрана строка, скончался после операции литературный критик Топоров.
Вольман приближался уже к садам на оконечности Кастелло, но посмотрел на часы и решил, что пора возвращаться к Сан-Марко: скоро займётся закат, а когда закат померкнет, он зайдёт в «Даниели»; хотел пригласить в бар свою венецианскую знакомую, занятую турбизнесом, но она сослалась на занятость…
«Может, это и к лучшему, – подумал Вольман, – завтра день тяжёлый, надо бы выспаться».
Что же всё-таки могло поместить Германтова в этот центр мира, его всеобъемлющего мира, в эту точку притяжения и схождения как стольких взглядов, так и стольких силовых линий?..
Совпадение?
Точнее – множество совпадений?
Совпадений ведь и впрямь хватало вокруг него – о некоторых из них, случайностях-совпадениях, сводящих и разводящих тех, кто прогуливался за его спиною по набережной, он даже и не догадывался… И тем более не догадывался он о совпадениях в чужих мыслях, намерениях.
Но совпадения, конечно, чистейшей воды совпадения – что же ещё? – удивительным образом сконцентрировались также – сомкнулись, сгустились, насторожили? – в его ноутбуке, в этом портативном электронном своднике. Что-то, не сговариваясь между собой, руководствуясь исключительно своими деловыми интересами и заботами, сообщили ему Бызова, Загорская, потом – благодаря сетевой телетрансляции – очкастая Левонтина… И что же? Заторможенная мысль вдруг понеслась: случайные совпадения, такие разнородные, но такие нацеленные, сконцентрировались сейчас и здесь абсолютно закономерно; судьба, когда жизненный пазл Германтова, казалось, был уже почти что выложен, одномоментно столькими сведениями поделилась с ним, так переплела-спутала их, пронзительные сведения эти, как если бы только ему, исключительному, распутывание их можно и нужно было доверить. А кому же ещё доверять, кому? Всё это его одного касалось; да ещё бежали, бежали строки, с машинальной бескорыстностью осведомляя его о вселенском броуновском бедламе. И вот, пожалуйста, пронзительный момент истины – и сам не заметил, как очутился в центре мира: мир вращался вокруг него, исключительного, единственного, всё, что завращалось-закружилось, имело ведь именно к нему отношение, всё! И ещё множество разных глаз по наказу его судьбы испытующе на него смотрели, срастаясь во всевидящий неморгающий сверхглаз, не иначе как призванный рассудить, спасует ли он, справится ли с решающим испытанием. При этом глаза и по отдельности оставались узнаваемыми – несколько дней назад, на рассвете, они придирчиво на него смотрели из сумрака спальни, а теперь Германтов, не выдерживая давления подвижных взглядов, не мог однако же отвернуться: прозрачные серо-голубые Катины глаза то растекались, то застывали, отвердевали, как невидящий гипс, он ощущал кислый запах затвердевавшего гипса. А вот Лидины глаза покорно мутнели и выцветали, а Верины, горячие и тёмные, с золотом, оставались такими живыми… Он постарался снова задуматься над странностями того, что Вера ему поведала с час назад, за десертом, и автоматически обернулся: за плечом слепо отблескивали небом окна дворца Беретти. Ну не совпадение ли – в этот самый момент, едва посуду домыли, Вере сделалось плохо с сердцем, Оксана как раз ей подавала стакан с водой, чтобы та запила лекарство. И в этот же момент из-под припухлых век глянули на Германтова широко разнесённые бледно-голубые очи Оксаны, в них острое любопытство необъяснимо сочеталось с апатией. Она слегка потянула белой, с крапинкой аметиста, кистью его руку и властно развернула ладонью вверх, чтобы погадать по ладони. Не по себе делалось ему под прицелом глаз – как бездарно он поступал, как нелепо, словно бы ни в ком не нуждаясь и никого не замечая, жил. Да, не выдерживая взгляда Оксаны, то на него удивлённо поднимавшегося, приподымая брови, то падавшего в шифровку судьбоносного узора ладони, укорил себя: почему он делал своих любимых несчастными? Почему за столько лет не позвонил Лиде? Мог бы ей хотя бы посвятить книгу, ту, о тревогах живописи, которая своим рождением так Лиде была обязана. Глупости… глупости прекраснодушия, оборвал себя: ему что, как бы он ни отворачивался от жизни, не хватало-таки жизненной горечи? Кроме глаз-взглядов, пронзавших годы, чтобы его, теперешнего, достигнуть – он даже распознал в двух дёготно-чёрных каплях зрачки юной цыганки с Витебского вокзала, – донимал нестройный хор голосов, далёких, но различимых, пугающе различимых. Страдать, страдать – его изводили амбивалентные чувства: радость-тревога, наслаждение-боль, восхищение-отторжение, – и амбивалентность эта была источником особых страданий. Соня? А ты не боишься истратить на напрасные страдания годы? И что он ответил – заранее напрасного от ненапрасного не отличить? И Соня сказала: умно. Заранее не отличить, а теперь, когда позади годы? Истратил – искал смысл жизни вне самой жизни и… «Ты кастрат жизни, Германтов», – донёсся из-за моря хриплый голос Бусыгина, а Анюта сказала тихонько, почти шёпотом, словно находилась рядышком, в осязаемо нежных шевелениях невидимых складок воздуха: «Каждого, Юрочка, ждёт свой Страшный суд, – и добавила: – Я уже в предбаннике Страшного суда, понимаешь?» И его, его тоже ждёт Страшный суд? Нет, нет, пока ещё – нет, пока он не в предбаннике даже, безосновательно сказал себе Германтов. Он не хотел умирать, он и зацепочку тут же нащупал, как если бы обладал свободой выбора: он должен не только дописать свою книгу, но и прочесть чудесно нашедшийся роман отца, прочесть весь роман, а не отдельные, выхваченные из него книжным маркетологом фразы. Внутреннее давление нагнеталось, а Германтов силился вновь и вновь вообразить состояние отца в расстрельном дворе, лицом к стенке: трещинки на штукатурке, ампирный руст, забитый грязью и пылью, – прощальная картинка за миг до выстрела? Слепота мыслей-чувств и неземная зрячесть соединялись в Германтове, прожившем такую долгую благополучную жизнь, а из досады на себя – жившего как-то не так, как стоило бы? – проступал стыд. Неужели ему вся эта мешанина снилась сейчас? Подумал вдруг – увильнуть бы, дать себе краткую передышку, – могла ли знать Анюта, что когда-то, да ещё одновременно с обнаружением рукописи отцовского романа, найдутся ноты с Изиной музыкой? Ноты тоже не горят? Мысли метались, сталкивались, а боковым зрением он следил за небритым пузатым дядькой в чёрной футболке с болтающимся на груди амулетом. Дядька вычерпывал консервной банкой воду из лодки, лодку с дядькой бережно покачивала розовая волна; и сплошная плотная волна отражённого розового света накатывала на Германтова. Вспомнил: жизнь – это усилие во времени. И скольких же душевных усилий стоили ему последние дни… И что же замаячило впереди? Страшный суд? А кто судия? «Кто лучше меня знает жизнь мою, начинённую иллюзорными терзаниями, и все-все мои прегрешения? Я сам себе судия», – понадеялся спастись от внешнего высшего суда Германтов, поднаторевший на кругах размашистых размышлений своих оказываться впереди Бога, тем паче что вроде бы послышалось ему, как Соня, выдохнув дым, произнесла: умно. Да, послышалось, как в тревожном сне, только послышалось; так спал он или не спал? Но сразу за этим мнимым звуковым сигналом потустороннего оправдания вся жизнь его, находившаяся под наркозом давних взглядов и голосов, при всей её кажущейся бессюжетности и неоформленности тоже резко укрупнилась, приблизилась так же, как только что укрупнялись и приближались вплотную к глазам его вполне конкретные неряшливые фасады на Восьмой линии, по которой, опаздывая, задыхаясь, бежал отец. И эта внезапная огромность обманчиво залепленной пустяками жизни, внезапная, поскольку, разрастаясь, почти завершённая жизнь его словно покидала при этом обратную трёхмерную перспективу, эффектами которой так часто профессор Германтов привык оперировать, и приближалась к нему в каком-то беззаконно-неведомом своём измерении, не давала Германтову права хоть что-то в ней, за хамелеоновской маскировкою её, не заметить, чтобы дать себе послабление. И он, если время будет ему отпущено, ещё заметит, непременно всё заметит-отметит, но позже – как он хотел оттянуть начало Страшного суда, как хотел! – он сам будет строго себя судить и достойно примет расплату, к которой сам себя и приговорит, позже, позже – окончательный необжалуемый приговор ещё только ждёт его, пока он всё-таки лишь в предбаннике Суда, да, да, в предбаннике; пока частичная предоплата?