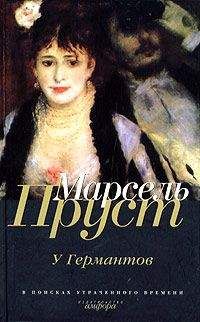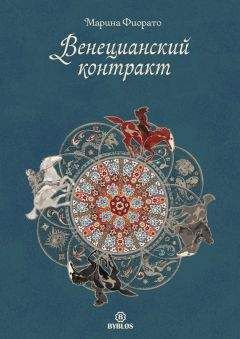Мысленно скомкал черновую версию приговора.
Что там сверкнуло над горизонтом, зарница?
Или ночная гроза, зная свой час, накапливает электрические разряды?
Да, ещё есть у него время, есть, пока ещё он в шикарном, лишь для отвода глаз заполненном прогуливающимися людьми, но на самом-то деле специально для него одного оборудованном предбаннике Страшного суда, в Венеции, на Словенской набережной, дожидающейся заката.
По глади лагуны скользили розоватые блики, скользила лодка.
И маятник, спрятанный в потёмках души, ощутимо качнулся к тайному свету. Германтов, как после покаяния, испытал облегчение.
Полистал механически, для порядка, файлы – второй: «Палладио и пространственные премудрости древних», четвёртый: «Краски против камня», восьмой: «Веронезе, художник-тенденция», одиннадцатый: «Слава и унижение как двойственная судьба Палладио». Всё отлично, книга собралась, её лишь оставалось преобразить увиденным завтра, подбодрил себя Германтов и внёс в название одиннадцатого файла пустяковую правку, посчитав, что точнее было бы дефисом сцепить слова: «слава-унижение». Всё отлично, книга будет особенной, она перекроет успехи всех его прошлых книг. Выключил ноутбук, затолкал в плоский накладной карман сумки и с чувством исполненного долга застегнул молнию: сейчас он освободится от раздумий и насладится закатом, а завтра – войдёт в виллу Барбаро.
Завтра, завтра.
А пока – зрелище…
Умиротворённый Германтов встал, медленно, нетвёрдой походкой – отсидел ногу – двинулся в сторону Сан-Марко, но всего через несколько шагов что-то заставило его оглянуться.
За ним – показалось ему, что за ним, – и тоже медленно шли двое таинственных соглядатаев в длинных чёрных плащах и белых масках с птичьими клювами. Правда, головы в масках были слегка повёрнуты к лагуне, они словно впервые лагуну с занявшимся пожаром на островах увидели, словно были зачарованы этим вечным, но всякий раз по-новому подсвеченным, меняющимся на глазах видом.
На вапоретто, отваливавшем на Лидо, зажглись кормовые огни.
Краски заката, облегчённые размышления у барной стойки, сеанс напряжённой театрализованной гипнагогии на огнисто-розовой Пьяцце, шаг в черноту и пересечение параллельных линийВидели ли вы когда-нибудь венецианский закат?
Дивных особенностей венецианского заката, на который засматривались, напомним, все окна дворца Беретти, мы уже бегло касались, когда Германтов и Вера катили через Ломбардию; но как было Германтову, коллекционеру своих возвышенных взглядов и настроений, не зажигать по памяти и другие закаты – петербургские ли, гагринские, да хоть и закаты над Атлантикой, Тихим океаном? И как было ему не сравнивать пылающие видения, не спрашивать себя каждый раз, когда вновь доводилось ему любоваться закатом в Венеции, вот как и сейчас, со Словенской набережной: где оно, утомлённое солнце, куда подевалось его нежное прощание с морем?
Где солнце – сзади?
Ну да, солнце на западе, а смотрим мы на восток.
Зрелище заката в Венеции, написанное лучами будто бы по театральному заднику, обходилось без видимого диска раскалённого солнца, распоряжавшегося, однако, сценическими эффектами.
И – как ни странно – к волшебству этого зрелища Германтов вовсе не считал напрямую причастной элементарную географию.
Природное явление здесь воспринималось как искусно искусственное.
И – исполненное в сугубо венецианском духе.
Какая здесь была режиссёрски сложная и тонкая постановка, каким изощрённым – словно бы другим в каждый вечер бесплатного театрального представления – был здесь художник по небесному свету! Мы смотрим на закат, хотя собственно закат мы не видим, мы видим лишь его следствие: солнце-то за спиной у нас, за силуэтной, угольно черневшей к верхнему краю стеной фасадов, и там, за фасадами, небо ещё телесно-тёплое, светлое, но солнца – нет, закатилось за фасады, и не видно его, а закат – точнее, то, что, расчувствовавшись, принимаем мы за закат, – на фоне другой половинки плавно темневшего к горизонту небесного свода поигрывает раскрасками и тональностями, длится, как бы доверительно, на глазах у нас, уточняя перед угасанием своим оттенки румян, накладываемых лучами на камни и воду.
А вот уже вроде и не румяна это, а какая-то воспаленнность, какой-то проступающий сквозь камни болезненный жар.
Вневременная обманка, как и вся Венеция: когда пишется это краткое неостановимое зрелище – сейчас, столетия назад или – завтра?
И сколько же неясных волнующих уподоблений порождает это прерывно длящееся веками зрелище, сколько ассоциаций.
Вечный, повторяющийся, однако – ежевечерний неповторимый символ расцветов и угасаний?
Расцветов… как угасаний?
Ежевечерний символ угасающей жизни, вписанный в общую символику самой Венеции, символику её многовекового прекрасного умирания… И какая же мягкость колорита, неуловимость цветовых и тональных переходов присуща камням её, вмонтированным в небо и омытым лагуной, какая в палитре этого заката генетическая верность стилевому венецианскому инварианту.
Вот ярко – ярко, но всё равно мягко! – запалился-зарделся портик островного монастыря, а боковой фасад его заплыл тяжёлой умбристо-сизой тенью. А вода, неподвижная и тоже тяжёлая, вдруг розовато-отражённо, ловя отсвет укрывисто-красящего огня, блеснула, а вот уже водный блеск отливал зеленоватым холодком…
Вольман не был чувствителен, но не смог не остановиться – смотрел.
И Бызова, и Загорская, и Головчинер… Не шелохнувшись, как околдованные язычники, стояли они в разных точках набережной, смотрели.
И Ванда, от избытка эмоций обессиленно прислонившись к чугунному стволу ещё не зажжённого фонаря-канделябра, смотрела.
Смотрели на закат-подсветку, а – даром ли на восток смотрели? – словно исподволь ждали восхода солнца.
И Германтов смотрел, смотрел: закат ведь был ещё и залогом завтрашнего рассвета, да и всего завтрашнего дня, наступления которого он с таким нетерпением ждал.
Но каждый раз – и будто бы впервые – он восхищался изменчивостью красочной сценографии.
Только что горела-раскалялась Джудекка – малиново-алая и… какая-то матовая, по зрительному ощущению, даже шершаво-шероховатая, словно красно-розовыми мелками по серому зернистому картону раскрашенная.
Только что серповидный пунцово-алый контур горел на куполах делла-Салуте.
Только что ярко горел Сан-Джорджо-Маджоре, карминно-алый – а вот уже, как и Джудекка, малиновый, будто ясно и чисто светящийся сквозь почему-то похолодевший фильтр, который с неуловимой лёгкостью поменял художник-осветитель, искусник наш. А вот уже огненный свет смягчался-замутнялся будто бы без ощутимых рукотворных вмешательств; неуловимо, будто бы лучи уже сквозь облако взметнувшегося пепла светили – как медленно, но явственно – дотлевал закат. Горел, прощально горел, фронтон монастырского портика, верхушка колокольни и вовсе пылала, однако – в плавной растяжке, сверху вниз – дотлевали стены, колонны, и справа вовсе догорала-дотлевала Джудекка, сплошная удлинённая головешка островных фасадов медленно погружалась в пепел. Небо – фон для нехотя меркнущих силуэтов пламени – темнело, сгущались выцветавшие краски; как быстро менялось всё, но незаметными оставались границы цветовых фаз – пока, казалось, лиловела каждая молекула воздуха, но монохромность брала верх, тьма торжественно, как занавес, опускалась, а по камням-формам она будто бы поднималась, догоняя убегавшее во тьму пламя. И где, где этот только что ещё плотный лиловый тон воздуха? Не прозрачный воздух уже, а непроницаемая, вытравившая лиловую основу свою материя, всё почернело – бледно-розовые блики, отражённые посланцы светлого неба, касавшегося сзади, за спинами зрителей, фасадных карнизов набережной, ещё еле заметно колебались на темневшей воде, поодаль блики сливались в тускло-розоватую пока, но покорно остывавшую и застывавшую полоску лагуны, а совсем спереди, у прибрежной кромки воды, тёмной-тёмной, чёрно-блестящей и плещущейся между причалами, дробятся уже электрические огни.
Катарсис?
Закат почти угас, зачарованные зрители в нерешительности – всё ли досмотрели, дочувствовали? – трогались со своих мест.
Бызова, Загорская, Головчинер, Ванда – да и двое таинственных незнакомцев в чёрных плащах и белых масках, – не желая расставаться со зрительной истомой, медленно-медленно и, разумеется, с отмеренными случаем дистанциями друг от друга, шли в сторону Сан-Марко.
И Германтов, словно в полусне, словно с притуплёнными чувствами, но всё ещё под чарами зрелища, медленно пошёл в ту же сторону, к Сан-Марко.
Музыка неслась с отчаливавшего вапоретто.