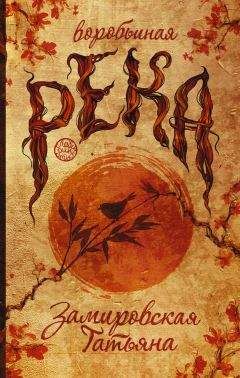Мужчина молчал, видимо, был все еще в шоковом состоянии. Передал жене девочку, забрал чемоданы из багажника, потом помахал ей рукой: ну, все нормально, значит, уже не в шоке, разберутся как-то теперь, разберутся.
Отъехала немного, остановилась на узенькой улочке, достала из кармана телефон.
– Все нормально прошло, я в городе, деньги заплатили, все в порядке.
Помолчала немного, послушала, вздохнула.
– Нет, давай уже не на этой неделе, тяжело это все-таки, я потом три дня, три дня лежу, просто лежу три дня как чертовая тряпка, ну.
Отложила телефон на пассажирское и не слушала какое-то время, пока из него что-то булькало, шелестело и увещевало. Потом, выдержав паузу, снова взяла.
– Да я понимаю! Понимаю это все, что люди, что они там месяцами и неделями уже, что кошмар что творится, что не выбраться вообще никак, что никто больше не поможет, ну то есть я и все! Понимаю! Но я если каждый день так, то мне трындец, ты не представляешь, как это проходит все, это ужас, ужас просто, сегодня вообще даже рассказывать не хочу, кто там и что, я думала, живая не доеду уже просто!
Но потом закивала, конечно: да, да, понимаю, приеду, всех жалко, никого не спасти, но на самом деле кого-то все-таки спасти, если подумать, но лучше не думать; два дня отдохнуть можно? Можно? Ну спасибо, что можно.
И поехала в гостиницу отсыпаться после этого долгого, долгого, невыносимо долгого рабочего дня.
Представляешь, попросили сняться в фильме в роли тебя. Как будто больше некому, то есть больше и правда некому, сказала она, холодно выдыхая в длинную-предлинную трубку где-то на том конце Вселенной – кто еще остался? Я да ты.
«Ты все время был рядом с ним, а я где-то сбоку, где-то по ту сторону всей этой концертной карнавальной чуши, и я в силах это сделать, снять и оживить только потому, что так и не успела приблизиться, а ты – потому что никого ближе не было, точка».
Прости. Я сразу заинтересовался.
Мы встретились: курит, улыбается, выглядит то ли как дочь, то ли как мать своя собственная – или старше самой себя на поколение, или из тех, про которых говорят «вылитая мама в молодости» и тычут под нос то уродливое шелушащееся фото в высокой шапке. Говорит, познакомилась с тобой в последний месяц, когда там уже почти все, и не успела ничего: пару дисков сунул под майку, растрепал челку, начал что-то рассказывать и задумался, а потом точка, и все так и повисло в этой задумчивости, и она так ничего и не поняла, и это невыносимо. Ни про какую Ирму ты мне никогда не рассказывал, была Анна-виолончелист, Таня-мародер, Света-фотомастер, Лера и Май, две некрасивые сестры с роскошными пепельного цвета кудрями, актриса Рахиль, из последних это все, Ирмы не было. Я ей это сказал, она говорит – да, в том-то и трагедия, меня не было, и надо сделать что-то, чтобы была.
Сценарий какой-то чужой. Она показывает, читаю: там не ты. Но и я не ты! Говорит, был такой биографический фильм про Боба Дилана, его играли разные люди, актрисы, актеры, женщины, дети, подростки. А тут биографический фильм про тебя, твое творчество, твой жизненный путь, ну, как обычно это бывает, чушь и банальность, и я в главной роли один.
Да, меня тоже заинтересовало, кто будет играть меня, ведь мы были же вдвоем, это как биография вторых пятнадцати лет жизни Джона Леннона с Полом Маккартни в главной роли. Ну, она говорит, тут как бы меня не будет вообще, будто меня и не было, я тут вообще единственный оставшийся из двух и снимаюсь поэтому в роли тебя.
Говорит, Фуко, Бодрийар, Делез, симулякр четвертого порядка, редкий случай в кинематографе. Я таких людей ненавижу, и фильмы такие ненавижу: сняться в роли Луча, но кто может быть Лучом, ведь все сущее служит Лучу – это Стивен Кинг. Я ей отвечаю цитатами из Стивена Кинга на цитаты из переписки Фуко с Делезом (они вообще переписывались? какого черта?) и чувствую, что почти выиграл. Зачем я тогда согласился? На что может согласиться человек спустя два года после момента окончательного несогласия с тем, как устроен мир? Это попытка оправдаться, объясниться – ведь все было не так, ты был не таким! Все, что я помню, все, что было во мне о тебе живого и честного, исчезло и превратилось в чужой сценарий, как я мог это допустить? Как вообще все такое допускают? Такое впечатление, что все только и делают, что переписываются с Фуко и Делезом, черт подери.
В общем, я попадаю на съемочную площадку и выясняю, что выбрали только две локации. Первая – заброшенный завод около водоканала, вторая – магазин элитных швейцарских часов, все нормально, прошипела Ирма, не задавай вопросов, просто владелец салона выдал нам бюджет. Таращу глаза – бюджет? Да, говорит, потом будем позиционироваться как безбюджетное кино на разбитой коленке, но на деле ведь весь артхаус делается такими вот часиками, секундными стрелочками, этим мрачным мужиком в сером костюме.
И потом, говорит она, все могло начинаться в магазине элитных часов! Вот вы где с ним познакомились? В клубе любителей виниловых пластинок? А теперь вы познакомитесь в магазине швейцарских часов.
Да, меня тоже заинтересовал этот вопрос – меня же нет в этой истории, как мы с тобой там познакомимся, в этом салоне, где даже дышать страшно?
В пятый раз: а меня кто играет? А тебя играет никто, говорит Ирма, давай, тут вольный сценарий, придумай что-нибудь про встречу!
О, это будет такая встреча с самим собой, треплет она меня по плечу. Вы знакомитесь в магазине часов. Он выбирает часы для своей девушки, бабушки, мамы. Часы сами выбирают его, просто без ножа режут – хочется опустить руки за стекло, как под воду, и пропускать десятки ремешков сквозь пальцы. Но денег на часы у него нет. И он решает, что, когда заработает много денег своей музыкой – господи, говорю я, да ему же постфактум, выходит, выделили денег, на которые можно накупить этой дряни на все руки своих многочисленных девушек, все ноги и шеи также, хотя шей в этом потоке арифметически закономерно меньше.
Я дышу в витрину и рисую на запотевшем стекле сердечки. Вспоминаются детали: трогал рукой нос, когда волновался. Покупал рубашки только в детском магазине. Здоровается всегда два раза – привет и через минуту снова такой – привет. А это, говорит, потому что вначале просто жест обнаружения себя, а потом – обращение к твоему подлинному я, которое на это обнаружение встрепенулось, отозвалось, но ему нужно что-то вроде поглаживания, знака. Или вот интервью музыкальному каналу и носки переодевает – подсмотрел у The Who. Или сидит такой и таскает сахар со стола. Я ничего не помню. Я помню все.
Я когда-то жил в лесу, говорю я в камеру, ну, практически в лесу. И там я начал сочинять музыку. Меня туда отправили волонтером. Лес что-то там нашептал, эээ. Блин, я не могу говорить, у меня дислексия, я никогда не был хорошим оратором, я никогда не был хорошим в принципе, как я могу это все рассказать?
Встреча, улыбается и курит она, дай мне встречу.
Кого я могу тут встретить? Дьявола? Продать ему душу? Кажется, я это делаю прямо сейчас, по-настоящему – нет?
Смеется, утирает слезы: все получается, говорит, я так и хотела, четвертый порядок – восстановление реальности, которой никогда не было, но которая теперь была с самого начала, даже восстанавливать не нужно.
Я потом неделю пил, кстати. Перерыв был, что-то в сценарии переписывали.
Потом была вторая локация, завод. Там нужно было сыграть твою смерть (в часовом магазине, выходит, играли жизнь?), но по-другому, не так, как будто ты лежал девять дней в коме и мы все боялись обновлять ленту «Твиттера» и дружно делали вид, что у нас перебои с Интернетом или зрением – а все эти дни сражался. Каждый день какая-нибудь битва в режиме реального времени: потом смонтируют уже.
Первый день была битва с грушей – повесили грушу, говорят: бей! Это первый физический уровень, чистый адреналин, шок и травма отрыва, говорит Ирма ярко-красным пустым ртом, уже не курит – бросила. Вторая битва – с трактором или бульдозером, я не понял: снимали в полумраке. Говорю этим, с камерами: парни, это было в клипе «Ляписа Трубецкого», а мне – молчи, это постмодернизм. Научила уже. Господи, мне хочется убивать уже, когда так говорят. Третья битва – битва с черной собакой, это животный уровень, инстинкт, попытка воссоединения с резервными силами организма. Привели на выбор трех: огромного циркового пуделя, лабрадора, дога. Перед догом я натурально застыл – огромная, роскошная собака. Высокая, похожая на свежесобранную «икеевскую» мебель: такую собаку можно только руками собрать по инструкции из древесных планок, листьев, кусочков меха. Я пошел в чайный уголок, набрал прямо из сахарницы полные пригоршни сахара, и этот дог скакал вокруг, как взрывающийся мебельный склад, отнимал у меня сахар, просовывал язык между пальцев, я хохотал, но на камере выходило, как будто я плачу, потому что я плакал.
Четвертая битва была самая страшная, потому что это была битва с самим собой, и мне сказали, что в этой ситуации лучше бороться с настоящим собой, потому что, что ты там в себе перебарывал эти десять темных дней, никто не знает. Расстановки, говорю я им, ребята, это все уже было, это сраные расстановки, я ходил на это, чтобы понять, почему мы с Лизой расстались, а мне сказали, что меня простила моя бабушка! Но вообще лучше бы меня и правда прощала бабушка, потому что дальше был ужас – меня посадили в темную комнату и опустили ноги в таз с холодной водой, сказали – борись. Я вначале смеялся, с чем бороться, с ледяными ногами? Я сидел там три часа и ужасно захотел в туалет. Комната была закрыта. Я понимал, что в таз это сделать нельзя. Борьба с самим собой, мысленно сказал я Ирме полным уважения мысленным голосом, но какая-то примитивная, хрипловатая, как и этот мой новый голос. В животе горело, я с пещерным, гулким плеском вынул ноги из таза. Наверное, это снимается на видео? Я замедленно, бережно бегал вдоль стен и искал выход. Потом окунул голову в таз – а, красиво? Я понял, они хотят снять, как я мочусь в таз – есть в этом какая-то красивая метафора, какой-то сраный рок-н-ролл. Но это неправильно. Это было самое неправильное вообще, с чем я тут столкнулся. Поэтому я лег вокруг таза и заплакал. В итоге за время съемок я уже два раза плакал. Когда я поплакал, мне стало легче: видимо, все же выделилась некая лишняя жидкость. Комнату открыли, я сходил в туалет и, пока мочился, снова расплакался, но уже от боли. Но все равно – во время съемок я плакал два раза. Этот, третий, был личная жизнь, а не съемочная площадка.