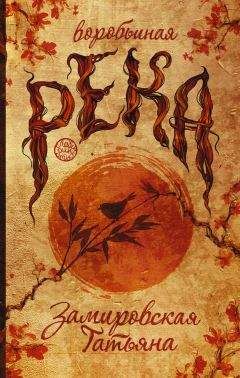В этот момент мне стало очень хорошо из-за того, что я вообще не могу сделать ничего из того, что мог сделать ты, потому что я все забыл. Тогда я положил инструмент прямо на трепыхающуюся кальмарную гору риса и желейных глаз, подошел к Ирме и начал с ней вальсировать нежно-нежно, ведь я точно знаю, какие мы оба изломанные и несчастные. В этом было так много твоего отсутствия и присутствия одновременно, что Ирма прижалась ко мне и непривычно нежным голосом сказала: ради этого момента, кажется, я и жила. А премьера, спросил я, ты должна была сказать это на премьере, кажется? На премьере я не смогу сказать это тебе, в смысле, тебе – объяснила Ирма, и я все понял, хотя она, на самом деле, ничего не объясняла, мне просто захотелось именно этого слова. Помимо слова, мне хотелось дела, а также уснуть или съесть что-нибудь теплое, не суши. Я прижался к ее холодному рту губами – показалось, что я с размаху лег лицом на холодную витрину, полную бело-розовых перламутрящихся плевочков.
Показать тебе, каким он был? Вот каким он был, черт возьми.
Короче, друг, это я все к чему. Я так и не доснялся в этом чертовом фильме и свалил. Потому что ты, сука, сделал именно это. Помнишь, как Джордж спустился по парадному крыльцу, вдохнул содержимое самого глянцевого, яркого, невыносимого фиолетового шарика и смешным гномским голосом сказал: ой, ребята, слушайте – ничего не вышло, ничего не получилось! – и все захохотали? Не помнишь? Я тоже не помню. Мы хотели привязать остальные шарики к дереву под окнами, где рождаются, но подумали, что ты слишком непредсказуем для такого территориально очевидного перерождения.
Поэтому, чтобы сыграть тебя честно, надо было вообще все сделать честно. О, как она мне угрожала, когда я не брал трубку, не отвечал на письма! Потом поменял все телефоны, паспорт, аккаунты в социальных сетях, работу эту осветительную поганую – и давно пора было. В конце концов вообще уехал – работал дизайнером дистанционно, пальмы, океан, фактически новая жизнь, никакой музыки. Вернулся через год, после премьеры, где мы с тобой оба, кстати, присутствовали в серебристо-черных рамочках и в роли друг друга – отличная ирония, отметил я, вспомнив, как она ухмыльнулась после того поцелуя, когда получила некое эфирное подтверждение непрекращающейся работы камеры. Спасибо, что неживой. В каком-то очередном ее интервью «ради-этого-момента-я-жила» в неожиданном качестве культового режиссера – да, я за всем внимательно следил с края той новой жизни, куда меня завело мое тщеславие, беспамятство и предательство (в первую очередь, тебя и памяти о тебе) – она говорит о своем ребенке, девочке, рожденной то ли от меня, то ли от тебя (какой бред!). По ее словам, это огромная и непростительная ошибка – девочка. Я бы сходил посмотрел на эту огромную непростительную девочку или хотя бы в кинотеатр, чтобы точно знать, за что подавать в суд, если подавать, но ведь нас с тобой больше нет, пусть это и наш с тобой ребенок (то ли девочка, то ли фильм, здесь мне уже пора заканчивать свое высказывание, чтобы не смущать тебя), а все остальное – музыка, прочая херня – ничего не значит. И в этом смысле я абсолютно чист – и точно представляю день перед очередным отъездом на год, два или навсегда, когда я покупаю билет в кино в обе стороны, обнаруживаю, что до сеанса осталось сорок минут, заказываю себе кофе в кафе за углом и, рассматривая перламутровые пузыри на жирноватой пене, погружаю пальцы правой руки в сахарницу по самую ладонь.
Колесико застряло в асфальте, пришлось дергать. Дернула, с шумом вдохнула прощальную пыльную жару с запахом шелухи, чемодан грохнул каменным кривым аккордом, и смешно подпрыгнула на месте, как от выстрела, который мимо, но лично, персонально.
– И вечно такое обиженное лицо! – пошутил Марк. Он всегда шутил, поэтому даже когда он не шутил, можно было думать, что Марк шутит. – Теперь я должен тащить, да?
– Не должен, – заулыбалась Лиза (улыбка – потому что шутит). – Я же сама этот чемодан выбрала, да? Правильно?
Когда выбирала его, Марк ворчал: это какой-то седьмой километр, чушь, пластик, халтура, будешь сама тащить, учитывай это, потому что вот у меня рюкзак, я не могу чемодан еще. Но Лиза уже купила свои восемь платьев и совершенно одинаковые туфли числом четыре, две пары блестят розовым леденцом, две серебрятся рыбкой-русалкой, не оставить. Тащишь, тащишь, всю жизнь что-то тащишь, а самого главного не утащить. Тук-тук.
Стесалось колесико, пришлось волочь, и стучало, но Лиза улыбалась, чтобы Марк не подумал, что она хочет его в чем-то упрекнуть, тем более рядом вокзал, кругом вокзал, всего можно коснуться рукой, воздух горячий, железнодорожный, столько сил – дергает, хохочет. Но лицо уже напряженное, а это нельзя.
Они приехали слишком рано, до поезда оставалось часа два. Марк сел на скамейку, уложил рядом рюкзак – длинный, тугой, спеленатый, с торчащей алюминиевой трубкой и напрягшейся под оранжевым брезентом осью будущей палатки, ибо палатка, как и дом, бывшей не бывает, а только грядет, намекает на грядущее размещение, уютный колышковый чертеж уже следующего лета.
Марк закурил. Лиза сказала:
– Давай сходим в Макдональдс, раз уж мы так рано, купим еды какой-нибудь в дорогу.
– Иди сама, если тебе нужно, – пошутил Марк.
– Или на рынок? – задумалась Лиза. – Но оно все будет сутки с нами ехать. Но я хотела привезти домой, наверное, инжира. Но страшно.
– Тебе страшно? – переспросил Марк, – А при чем тут я? Ты хочешь, чтобы я принял какое-нибудь решение? Я не хочу принимать решения. Ты просто реши, чего ты хочешь.
– А ты?
– Я хочу покурить и чтобы ты меня не дергала по поводу каждого своего мелкого-бытового решения, которое ты никогда не можешь принять, – очень мягко объяснил Марк, такой тихий и красивый в тени немыслимо пыльных вокзальных тополей. – Хочешь сходить в Макдональдс? Иди, конечно. Просто не нужно делать так, как будто это я тебя посылаю чего-то купить. Сама ответь себе на вопрос – чего ты хочешь? Не будь такой нерешительной.
– А тебе что-то нужно? – спросила Лиза. – Ты есть хочешь?
– Лиза, – еще мягче сказал Марк, – Ты, пожалуйста, думай о себе. Заботься о себе. Я сам о себе позабочусь.
– Пить? – спросила Лиза высоким и гулким, как у болотной птицы, голосом.
– Я сам потом пойду и куплю, – уже с какой-то жалостью сообщил Марк. – Два чизбургера. Можешь принести мне два чизбургера.
Лиза сделала по пыльному асфальту три шага, потом развернулась и сделала два шага обратно. У нее на коленках сидело по мухе, на одной – простая зеленая, на другой – маленькая черная, липкая, виноградная, даже мошка скорей.
– Ну что еще? – очень усталым голосом спросил Марк. – Можно я просто посижу спокойно?
Лиза сняла с плеча сумочку с документами, достала из кошелька деньги, засунула их в карман шорт. Повесила сумочку на шею Марку. Марк сделал особенное лицо – как будто он сейчас заплачет. Он и правда почти плакал, так его все это достало.
– Ну, там просто цыгане, – тихим мрачным шепотом уточнила Лиза. – Они там стоят всюду, смотрят сразу, как будто уже знают все, кто куда едет и где слабые места. Я не могу, вдруг потянут и оторвут, а там паспорт, а там Шенген, ну пожалуйста, мы же еще в Барселону хотели в ноябре. Ты просто сиди, и все.
Марк вздохнул. Сумочка болталась на его шее, как радиоприемник.
Лиза отошла еще на пять шагов и обернулась. Подпрыгнула и помахала рукой.
– Лицо, лицо, не делаем злое лицо! – прокричала она. – Радиоприемник!
Марк закрыл уши руками и чуть не поджег себе левый висок.
Лиза пошла напрямик через всю эту огромную, жаркую, троллейбусную привокзальную площадь. Вдалеке сиял храмом Макдональдс, после четырех часов троллейбусной маеты хотелось ванильный коктейль, горное озеро, еще раз искупаться, два чизбургера, обернуться белой лебедью и кувшинчиком родниковой водицы, и хорошо, что я не курю, а то даже просто так одышка, подумала, переступая через высокий белый парапет. Без дурацкого чемодана с кривыми колесами должно дышаться легче, но вообще-то было не так уж и легко.
Вокруг роилось, билось и толкалось в ноги и локти чужое лето, стремительно исчезающее. Маршруточники вставали на ее пути, как горы: Алушта! Ялта-Мисхор! Партенит, кому Партенит, через пять минут отправление! Налетели бородатые поджарые старухи с корзинами медового, солоновато блестящего инжира. Валила невидимой зыбкой лавиной вдоль асфальта душная выхлопная гарь. Дети с белыми головками горделиво, как маленькие княжичи, сидели на огромном лиловом чемодане-троне, который будто бы ехал сам по себе. Прямо в лицо вдруг ворвался, закричал усатый, пахнущий серой, землей и потом мужик: Гурзуф! Гурзуф! Партенит! Всюду шумело, бурлило состояние первого дня, первого дымного часа отпуска, этих ранних утренних минут только что с поезда. На земле, будто в ожидании троллейбуса, лежала пыльная чурчхела. В Макдональдсе нарядные по случаю первого сентября симферопольские второклассники мутузили друг друга только что выданными учебниками и кричали: «Ты, Варерик, подонок! Ты, Варерик, пидарас!» Тот, кто был Варериком, бил-бил учебником шутливо и манерно, и вдруг начал натурально убивать, просто по-настоящему метить уголком энциклопедии в висок, все завизжали, Варерик просто сорвался, не выдержал, видимо, его гнобили весь первый класс и настала минута мести, ад взросления. Бледная тетя уронила поднос и сказала: «Ну вы гниды». Очередь превратилась в обычную толпу, из которой Лиза тут же выбралась вся измятая и в чужом ржавом мороженом. Ее вынесло к стеклянной двери, около которой стоял совсем маленький мальчик и громко, монотонно вопил: «Нельзя фотоаппарат, курите собаку! Нельзя фотоаппарат, курите собаку! Нельзя фотоаппарат, курите собаку!» Лиза обернулась, ей невыносимо захотелось увидеть собаку, которую малыш предлагает выкурить, ей уже чудился дредастый венгерский пули, но когда толпа прижала ее к двери всю целиком, выяснилось, что мальчик просто читает запрещающие знаки на стекле: «Нельзя фотоаппарат! Курить! И собаку! Нельзя фотоаппарат! Курить! И собаку!» Господи, господи, кричала в ответ какая-то женщина, возможно, мать, я уже поняла, спасибо за информацию, прекрати, прекрати!