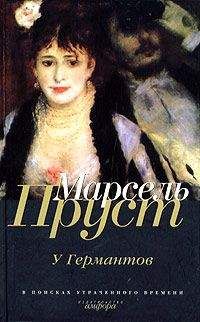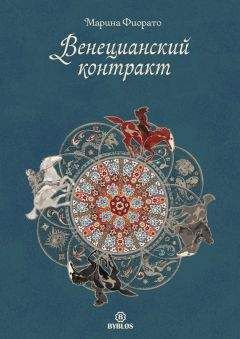Качнулась многоарочная декорация старых Прокураций.
Германтов встал, доведённым до автоматизма жестом повесил на плечо сумку – что вызвало у одного из горбоносых удовлетворённый кивок – и, ощутив привычно приятную тяжесть сумки, медленно направился к аркаде Наполеоновского крыла Прокураций. Возможно, уже потому хотя бы, что он поменял положение тела – сидел и вот, встал, – поменялось и настроение его, маятник, непрестанно качавшийся в последние дни между надеждами и угрозами, зависнув на миг в мёртвой точке, качнулся уже в желанную для Германтова сторону. Не исключено даже, что множественность разноразмерных маятников, в разных амплитудах качавшихся в эфемерно тонких срезах души, срезонировала с сердцем, сойдясь с ним, истомлённым своими сомнениями, в неком успокаивающе согласном ритме. И он уже ненапрасным считал всё, что случилось с ним, и больше не боялся мрачных пророчеств великих призраков, а престранная до нереальности беседа с ними сразу же стала восприниматься им не только в качестве отвлечённо-забавного эпизода, естественно вписавшегося в театрализованную атмосферу вечерней Пьяццы, но и как вполне вдохновляющая; он ведь так был близок к цели своей, у него и озорная мысль мелькнула, мол, если их, великих, вмешавшись в сюжет мистерии, ко времени подослала на Пьяццу и усадила за его столик Вера, то – независимо от её мотивов – большое ей спасибо за неординарных собеседников, спасибо за подаренную возможность напоследок размять замысел, потренировать и прочистить ум!
Он даже мысленно бросил им, великим призракам, чтобы оставить за собой последнее победное слово: врёте! Врёте, что не позволите…
Но сейчас – в гостиницу, надо выспаться. А завтра утром, на свежую голову…
Войдёт и – увидит!
Только что выпил остывший кофе, но опять, как после выпитого коньяка, ощутил приятное внутреннее тепло и лёгкое головокружение. И розовый свет вновь набирал яркость, будто бы фонарям накала добавили, и свет стекал по рельефному фасаду, по накладным колоннам его, тягам и декоративным подоконным балюстрадкам. Германтов, взяв чуть левее, привычно приближался к левому углу трапециевидной площади, к сквозной арке, и хотя многократно в разные годы он проходил бездумно под этой аркой, направляясь к своей гостинице, ему эта натуральная и с давних пор знакомая арка тут ещё показалась вдвойне знакомой за счёт некой неожиданной неопределённости, которую она обрела сейчас. Не иначе как он видел её, эту словно занимавшуюся пламенем арку, прежде, но… видел где-то в другом месте, словно повешенный на стену торопливый эскиз-нашлёпок. Видел словно написанную, вернее, намалёванную на плоскости и с какими-то искажениями, видел её, словно вибрировавшую в густо фактурных огненно-розовых наслоениях мазков, отчего у чёрного арочного провала будто бы дрожал опалённый контур.
Что там, внутри контура? Лёгкие женские силуэты скользнули в пепельной тьме, у голых и скучных стен, как если бы он, актёр, отыграл спектакль, а поклонницы с цветами поджидали его в переулке у служебного выхода.
Силуэты исчезли…
И что особенного? Он привычно приближался к арке, при этом чёрный арочный проём словно манил его, притягивал, он чувствовал, что что-то манящее наполняло чёрную пустоту.
Хотя знал он, что там, в глубине арки, непременно потянет вонью из общественного сортира с хромированными турникетами и он свернёт…
Но что же сейчас так поманило его, что?
Он вдруг, сделав шаг к арке, услышал, как где-то там, в тёмной глубине её, простучали трамвайные колёса на мосту через Карповку, закричали вороны, и увидел под ногами своими не неровные мраморные плиты, а ледоход – желтоватые плоские льдины, сталкивались, раскалывались, крошились, и всё-всё, зримое и звучащее в сгущавшейся тьме, хотя он ещё и не шагнул в неё, в эту манящую тьму, воспринималось им гораздо полнее и отчётливее, чем хоть что-либо из того, что он видел и слышал на свету прежде. И как-то всё быстрее, всё интенсивнее считывал он озвученное видение, как если бы спешил здесь, сейчас, за этот исчезающе краткий, чудом отпущенный ему миг, прочесть толстую книгу с дорогими ему подробностями. В лицо бил поток пустяков, из которых и слепилась жизнь его, но тут же в лицо ему, словно приблизился конец недочитанной книги, ещё и ударила безвоздушно-плотная темень. Он шагнул под арку, коснувшись лишь краем глаза розового отсвета на боковой грани арочного пилона и эмалированной таблички на нём с чёрными буквами «WC» и изогнутой стрелкой, и тут же, окунаясь во тьму, услышал торопливые, догонявшие шаги сзади. И тогда, когда чьё-то дыхание ощутимо тронуло его затылок, с плеча кто-то сдёрнул сумку, и он, слегка развернувшись от этого резко дёрнувшего усилия, как если бы всего-то удивился ему, усилию этому, увидел прощальным промельком угол Пьяццы с опустевшим кафе и в мёртвой тишине услышал топот убегавших ног. Не успев понять, что же стряслось с ним сейчас, он вернул опять голову в прежнее положение, опять окунулся в темень, но увидел впереди, в жидковатом, ко времени включённом электрическом свете случайного окна, две удалявшиеся в перспективу узкой улочки фигуры, как бы отбившиеся от карнавальной толпы: одну, с лёгкой и чуть подпрыгивающей походкой, стройную, с прямой спиной, обтянутой винно-красным бархатом, и другую фигуру, приземистую, пожалуй, тяжеловесную, в просторном тёмном балахоне с отложным, заляпанным кровью белым воротником…
Отступиться?
Нет! В глубине души зазвучали мажорно трубы сопротивления. Нет, нет, он предупреждён и знает всё про табу, но пойдёт наперекор, он у цели, ему осталось сломать последний барьер словесных запретов и…
И возможным сделать невозможное, достижимым – недостижимое, и… И не приблизиться он хочет, а – проникнуть.
Германтов задохнулся – с винно-красного бархатного плеча Веронезе свисала на ремне сумка с ноутбуком, – как, как? Так они, именно они, не ограничившись уговорами-запугиваниями и опередив его, правдами-неправдами достигли цели своей? Их пособники-воры сделали своё дело и…
И он – обезоружен теперь?
И только что он им бросал гордое своё – «врёте», а ведь не врали, не пугали попусту, а точно знали наперёд то, что ожидало его?
И ничего завтра он не увидит… А если не увидит, то зачем ему жить? Всё кончено?
И завтра – не будет?
И пока задавал он себе глупые беспомощные вопросы, пока столь же беспомощно пытался отвечать на них, маниакально затевая с самим собой несвоевременный неуместный спор, обе фигуры на глазах его расстались с телесностью, испарились, одежды их медленно опали на плиты.
«А сумка где? – машинально подумал, чувствуя, что не может ни выдохнуть, ни вдохнуть. – Сумку они унесли с собой?»
И что-то вовсе не связанное с анатомией и физиологией, что-то… – трубы захрипели и смолкли, а душевная потайная струна какая-то, которая для поддержания жизнедеятельности была поважнее всего физиологического функционала – в нём оборвалась, и почувствовал он, что эта же душевная струна была ещё и решающе важной струной в каком-то ведущем многострунном инструменте мирового оркестра. И звук щемящего обрыва был последним для внутреннего слуха его, и сразу же, едва иссяк звук, последние частицы внутреннего тепла вытеснились из грудной клетки неземным холодом. А едва до него дошло напоследок, уже, возможно, за границами слуха и зрения, что все эти невнятицы вместе – формулировки необжалуемого, уже приводимого в исполнение приговора, что действительно он завтра ничего не увидит, как все остаточные мысли и чувства за ненадобностью улетучились, мраморная, со щербинами, трещинами и затёртостями плита мощения всё быстрее стала приближаться к глазам, над плитой почему-то искристо взметнулась снежная пыль, но и проблеск её поглотила сплошная бескрайняя чернота.
В этот момент мавры пробили полночь.
И в унисон маврам – на их двенадцать гулких ударов колокола – пробив три часа ночи, с нежным перезвоном, но будто бы неслышно, вызвав будто бы лишь легчайшую вибрацию мироздания, отозвались где-то далеко-далеко, за морями-горами-долами, музыкальные куранты на стройной колокольне со шпилем, вознёсшейся над широкой, ещё скованной льдом рекой.
А он лежал на плитах, на боку, но как-то – вполоборота, в неудобной позе, чуть отведя в сторону руку, а на напряжённом лице его застыло чувство неловкости, и он словно этой последней печати на лице своём стыдился.
И он словно всматривался во что-то, к чему-то прислушивался?
Ночь накрывала его, а эхо звука, соединившего в себе два совпавших звучания, близкого и неимоверно далёкого, затихало.
Хотелось бы думать, что именно Германтову посвящалось это щемящее, обозначившее тут и там местные времена и как бы невольно сблизившее удалённые пространства двузвучие.