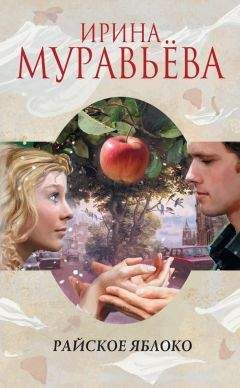Посреди ночи ему показалось, что кто-то лезет в форточку, но это не испугало, а скорее насмешило, потому что ночь была морозная, они спали с закрытыми форточками – кому же могла прийти в голову эта дурацкая мысль? Потом над ним вспыхнуло слово «нет-нет» и тоже его рассмешило – «нет-нет» бормотала и Катя, когда он, уже задыхаясь, ослепнув, пытался погладить ей грудь через платье.
– Алеша! Алеша-а-а! Да где же ты, Господи!
Мать кричала из большой комнаты, но голос ее как-то странно дробился, как будто он был из стекла.
– Алеша-а-а! Скорей! Папе плохо!
Он вскочил и побежал. Отец сидел в кресле в одних трусах, на плечо было накинуто одеяло, которое сползало, и мать поправляла его. Форточка была открыта настежь, в комнату врывался морозный воздух с желтоватой примесью уличного фонаря. Лицо у отца было белым, большим и дрожащим, с черными набухшими подглазьями, похожими на комья свежей земли. Он увидел Алешу и сделал какое-то слабое и робкое, как показалось Алеше, движение пальцами левой руки, как будто его отсылая обратно.
– Не двигайся, слышишь! – тем же стеклянным, не своим голосом прокричала мать. – Тебе нельзя двигаться, слышишь, Володя! Они уже едут!
Алеша не понял, кто это «они»?
– «Скорая», «Скорая» едет! – прошептала за его спиной бабушка. – Минут уже двадцать, как вызвали!
Отец начал задыхаться и с хрипом ловить воздух широко раскрытым ртом. Лицо превратилось из белого в голубоватое, и вдруг проступили на этом лице какие-то темные пятна.
– Дыши! – умоляла жена. – Ну, дыши! Возьми валидол! Почему ты не хочешь? Тебе же всегда помогает, всегда!
– Попить… – низко выдавил он. – Во-о-оды…
Бабушка легко, как балерина, выпорхнула на кухню и тут же вернулась с водой. Мать начала поить его, но он все ловил ускользающий воздух, хрипел и метался. Вода проливалась.
Минут через пять в дверь резко позвонили, и вошла бригада в пальто поверх белых халатов и в шапках. Доктор, не снимая верхней одежды, решительно подошел к отцу, пощупал пульс, заглянул в зрачки и тут же кивнул санитарам: «Носилки!»
– У нас не работает лифт по ночам, – сказала испуганно мать, – что же делать?
– Мы поняли, что он у вас не работает, – раздраженно ответил он. – Придется нести, делать нечего.
– Аркадий Андреич, – заметил один санитар, – зачем перекладывать-то? Давайте на стуле его понесем.
– Тяжелый, уроним, – сказал ему доктор.
– Шофера сейчас позовем, вчетвером…
– А, ладно, давайте! Оденьте его! – И он обернулся к Алешиной матери и тут вдруг заметил Алешу. – Вот ты и поможешь отца донести. Не надо шофера, вот парень поможет.
Мать принесла одежду и принялась напяливать ее на отца, но руки ее дрожали, и она не могла застегнуть ни одной пуговицы. Бабушка бросилась помогать. Отцовское лицо было уже не голубоватым, а лиловым, – да, ярко-лиловым, – глаза закатились.
– Ну, хватит! Копаться-то некогда! – прикрикнул рассерженный доктор.
– Да как же? Простудится! – всхлипнула мать.
– Уже не простудится.
Мать ахнула и прислонилась к стене. Вчетвером они подхватили тяжелое кресло вместе с полуодетым отцом, у которого забулькало внутри, оторвали его от пола и, напрягшись, понесли к двери. Алеша и тот санитар, который предложил обойтись без носилок, держали кресло сзади, доктор и второй санитар – спереди. Алеша видел перед собою согнутые и напряженные спины доктора и санитара и голову отца, которая болталась из стороны в стороны, как будто отец уже не мог удерживать ее в одном положении. Хрипы и бульканье становились все сильнее, а тот отдельный от них звук, с которым отец еще заглатывал воздух, стал редким и странно-певучим, как будто отец собирал свои силы, стараясь запеть что-то вроде молитвы, но хрипы мешали ему, и он ждал, когда эти хрипы утихнут.
За спиной Алеша слышал шаги матери и бабушки, и мама едва слышно стонала: «Володя-я-я-я». Несли отца долго – Алеше показалось, что прошло несколько часов, пока шофер, оставшийся на улице, отворил им подъездную дверь, отца осторожно переложили на носилки и втолкнули в машину. Доктор и санитар вспрыгнули за носилками, а второй санитар сел рядом с шофером. Мать ухватилась за дверцу и не давала доктору захлопнуть ее.
– Пустите меня! Пустите, я с вами! Куда вы везете его? – стеклянным своим, новым голосом вскрикивала мать, поднимаясь на цыпочки, чтобы разглядеть то, что происходит с отцом. – Я с вами поеду!
Доктор, наклонившись над носилками, заслонял отцовское лицо и большую часть его тела и не оборачивался.
– Езжайте сейчас в Склифосовского, – быстро и неохотно сказал санитар. – Спокойно оденьтесь, вам все там и скажут.
Мать обреченным и каким-то театральным даже движением уронила руки и зашаталась. Бабушка обняла ее. Машина отъехала.
– Он умер, – сказала вдруг мать очень тихо. – Он умер сейчас.
Она отстранила бабушку, вошла в подъезд и принялась медленно подниматься по лестнице.
Отца похоронили на Троекуровском кладбище, хотя как только известие о его смерти дошло до главного режиссера, он позвонил матери и сказал, что готов похлопотать о Новодевичьем. Мать лежала на кровати, одетая, не плакала и не разговаривала ни с бабушкой, ни с Алешей. К телефону подходила бабушка.
– Аня, – шепотом сказала бабушка, – можно вроде и на Новодевичьем. Ты как? Ты хотела бы?
Мать резко поднялась и вырвала у нее трубку.
– Не надо, – сказала она. – Не стоит хлопот. А ему все равно.
И снова легла.
Звонки не прекращались, потом друзья и знакомые начали приходить домой, всхлипывать, сморкаться, приносили цветы, которые некуда было ставить. А мать все лежала, не обращая ни на кого внимания, не разговаривая и не плача. Алеша заметил, как многие женщины присаживались на краешек кровати и гладили под одеялом ее ноги, как будто это было самым лучшим способом выразить свое сочувствие. Потом вставали и целовали ее в лоб, как будто она уже тоже была не живым человеком.
Он не помнил, как прошла первая половина ночи. Бабушка легла с матерью, и они закрылись в большой комнате. Было часов одиннадцать. Ему полагалось страдать, а он ничего не испытывал – одну пустоту. Как будто был весь забинтован, включая глаза, рот и нос. Одна странная мысль доставляла ему беспокойство и не давала уснуть, хотя он так сильно устал. Он пытался понять: где сейчас отец и что с ним? Слово «смерть» ничего не объясняло ему. Смерть означала только то, что отец не вернется в этот дом – ни трезвым, ни пьяным, ни веселым, ни мрачным, они не услышат его голоса и звука его тяжелых шагов, он не закашляет посреди ночи и не попросит, чтобы мама сварила ему кофе. Но отсутствие всего этого и даже многого другого, связанного с отцом и его жизнью, означало только то, что отца нет здесь, в этой жизни, и это Алеша готов был понять, но то, что отца нет нигде, он не понимал.
– Какой он теперь? – спрашивал себя Алеша, лежа в темноте под одеялом и чувствуя, что его начинает колотить. – Сейчас вот он где?
Под утро он все же заснул.
…Оказывается, не было никакой зимы, а был самый разгар лета, и они с отцом отдыхали где-то на юге. Их дом стоял прямо над морем, но между водой и открытой террасой густо роcли тростники, и из слабо поющих зарослей их то и дело вырывались большие, с синими головами, птицы. Алеша стоял на террасе и всматривался в то пространство, которое открывалось над водой и этими слабо поющими тростниками, пытаясь понять, где же оно заканчивается и заканчивается ли где-нибудь. Он услышал шаги отца, обернулся и увидел, что отец выходит к нему на террасу из полутьмы коридора, по обе стороны которого располагались комнаты. Отец был босым, в трусах, располневшим и заспанным. Левая щека у него была примята – видимо, он отлежал ее во сне. Алеша почувствовал знакомый запах отцовского одеколона и услышал его охрипший со сна голос. Отец спросил его о какой-то ерунде. Он начал отвечать, но тут же вспомнил, что отец ведь только что умер, стало быть, он вышел к нему не из коридора, не из спальни, а из какой-то другой полутьмы и нужно успеть спросить его о самом главном, а не тратить времени на пустые разговоры. Он изо всей силы втянул в себя запах отцовского лица, словно этим мог задержать его, и спросил:
– Как тебе там?
– Мне? – не удивившись, переспросил отец. – Мне хорошо.
Он повернулся и тихо пошел обратно в тот же полутемный коридор, обеими руками поправляя растрепанные волосы. И снова Алеше показалось, что не было никакой смерти, и отец просто идет снова спать, но тут же он вспомнил, что нет, нет, не спать – уходит туда, где он есть, возвращается, и это не страшно ему и не жалко ни сына, ни дома, ни волн вдалеке.
В десять часов утра началась панихида в театре. Гроб установили на положенном ему возвышении, собравшиеся густо, как пчелы, окружили его своими монотонными голосами, и товарищи отца по работе тихо, с этими печально-почтительными лицами, на каждом из которых сквозь печаль проступало невольное удовлетворение, что это хоронят не их, а другого, сменяли друг друга в почетном карауле. Потом начались речи, и монотонное гудение притихло. Мать стояла вплотную к отцовскому гробу и гладила его по лицу. Странным было то, что она по-прежнему не плакала и гладила его по лицу с какой-то даже настойчивостью, словно от ее прикосновений что-то зависело. Бабушка была тут же, слева, и Саша держал ее под руку. Бабушка плакала и вытирала глаза перчаткой, но, бегло взглянув на нее, Алеша увидел, что смерть отца уже не приносит ей той боли, которую она чувствовала до тех пор, пока рядом не появился Саша и не взял ее под руку. Несмотря на то, что он понимал, что от него ждут, чтобы он тоже занял свое место рядом с матерью и бабушкой, он не мог заставить себя сделать этого. Катя, которой он не позвонил ни разу за эти три дня, пока готовились похороны, каким-то образом узнала о случившемся и теперь стояла рядом с ним, не притрагиваясь к нему, и он чувствовал ее глаза, как чувствуют иногда тепло чужого дыхания.