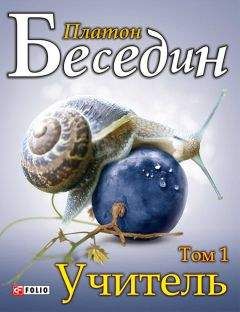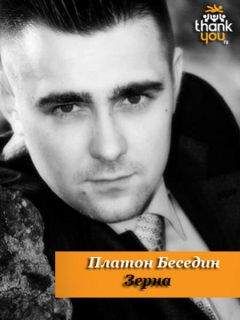– Да, сейчас, ты откуда?
– От верблюда, – засмеялся Витя, – из армии, брат! Дембельнулся! Ты не в курсах, что ли? – Я помахал головой. – Ну, вы тут совсем охренели!
Он обвел взглядом полки, на которых за мутным стеклом – его никак не могла отмыть бабушка – по-солдатски ровно стояли книги.
– Хотя ты и не спрашивал. Все книжки читаешь…
– Да где там! – Я разозлился. Книги книгами, но мне, правда, никто ничего не сказал: ни Ольга Филаретовна, ни бабушка, ни мама, точно это меня не касалось. – Всем по фигу!
В ответ Витя шутливо приподнял руки, хотя взгляд его, всегда немного прищуренный, стал настороженнее, злее.
– Ну, давай, одевайся, Бесюк! В обед дембель праздновать будем!
3Когда прихожу к Шкариным, гости собираются за длинным столом, составленным аж из шести частей; исключительный случай. Вместо табуреток и стульев используются доски, настеленные на абрикосовые чурки. Распоряжается Ольга Филаретовна, шныряющая туда-сюда и делающая это легко, не без грации, хотя, казалось бы, ее тумбообразная фигура пресекает всяческую мобильность. Тем не менее, ей удается и суетиться самой, и отдавать команды-рекомендации другим. Профессиональная, наверное, привычка, выработанная на должности школьного завуча. Когда же к ней подходят, она отвечает так, будто разгоняет тяжелый грузовик, и он прет, не зная препятствий, пробивая, тараня любую стену.
Бабушка встречает гостей, а мама разносит тарелки с холодцом, как инеем, подернутым белым жиром. Я хочу накинуться на нее с обвинениями, почему мне никто не сказал, что из армии возвращается Витя, но вид у нее и без того замученный, так что я обращаюсь к бабушке:
– Трудно было сказать, что Витя приходит?
– Ты бы меньше валандался невесть где…
Хочу отрицать поклеп, но приближается Ольга Филаретовна:
– Здравствуй, Аркадий.
– Здравствуйте, тетя Оля, – в разговоре называю ее так, по-родственному, но мысленно всегда выдаю солидное, тяжеловесное «Ольга Филаретовна».
– Готовишься к экзаменам?
– Ага.
– Ну, смотри, – с профессиональной строгостью встряхивает Ольга Филаретовна, – на «золотую» идешь. – И уже маме: – Давай холодец, Маша, гости ждут!
Гости и, правда, стекаются в шкаринский двор; не только через калитку, но и через дыры, лазы в деревянном заборе, обращенном к дороге. Гостей, на самом деле, немного, но интенсивность их появления создает эффект массовости. Все они одинаковые, похожие друг на друга – атака клонов, made in Каштаны.
Мужики – высохшие, морщинистые, почти черные от вино-водочного загара, с большими подвижными кадыками и выбеленными глазами, всегда то ли хитро, то ли настороженно прищуренными. Говорят медленно, с увесистыми паузами. У кого-то получается солидно, многозначительно, но большинство скорее подтормаживает, виснет. Пахнут размеренностью и апатичностью. Но когда злятся, в ноздри собеседнику бьет запах спирта, и мужики из просветленных дервишей превращаются в похмельных бухарей. Впрочем, злятся они редко, хотя агрессию – в словах, жестах – выказывают постоянно, но она, растворенная в зыбкости бытия, смотрится естественно, органично.
Сельские бабы, наоборот, бегают, суетятся, все время куда-то спешат, взмокшие, раскрасневшиеся, словно тесто, замешанное на молоке, что накрытое пленкой, исходит липкой испариной. Говорят крикливо, напористо, пестро. И под этим русско-украинским ответом цыганскому табору невольно тушуешься, куксишься, чувствуя неловкость за децибелы. О чем бы бабы ни говорили: о ценах, продуктах, огороде, мужьях, детях – они неизбежно ругаются, спорят. Причем, спорят из-за того, что еще недавно в один голос поносили, возмущаясь, что так жить нельзя, но приходится. Спор зачинается с несогласия одной из баб – «да что вы все о грустном да о грустном» – с упадническими настроениями подруг, и она отчаянно принимается возражать. Примирение же наступает тогда, когда базар переходит в критику мужиков, из которых больше всего достается «непутевому Лешке», моему отцу. Бабы костерят его и при мне, усердствуя, кажется, даже сильнее обычного, словно провоцируя на защитную реакцию, чтобы я не был себе на уме.
«Быть себе на уме» – деревенская «черная метка», позор, от которого не отскоблиться. Ум, индивидуальность вообще не слишком котируются в селе, ибо предполагают несогласие с происходящим, а это настораживает, пугает. Страх маскируют за смехуечками, загоняющими несогласного в отстойник, к местным юродивым, где, наверное, и для меня припасено местечко.
Когда я вернулся из Севастополя, те, кто так раздражал, от кого я бежал, пуская сквозняки, полезли в душу, и ей стало зябко. Люди подходили, смотрели и пихали свою никчемность. На, держи – пригодится…
Блядские промоутеры несчастья! Я отбивался от них, как мог, но мог слабо, отвечая лишь взглядом – подавленным, смятым. И от моей скрытой агрессии, и от надменного, как им казалось, молчания они приходили в ярость, запасались обидой прежде всего потому, что в этой пассивности чувствовали декларацию моего различия с ними.
Они сбили клетку, запихнули меня в нее, повесив табличку «Осторожно, чужой!», и я обрадовался, решив, что сейчас наконец-то оставят в покое, но они не отстали – начали водить экскурсии, демонстрируя меня как диковинного урода. В ответ я плевался отвращением (жаль, что не иглами с ядом кураре), особенно усердствуя на уроках. Но учителя прощали: одни потому, что я хорошо знал предметы, другие потому, что связывали мое, как они говорили, вызывающее поведение со смертью деда.
Своей лояльностью они оказали мне дурную услугу. Потому что скажи кто: «Эй, парень, спокойно, а ну-ка веди себя достойно», пригрози наказанием, урезонь – и я бы, как Маугли, вернулся к людям, ассимилировался, пусть и периодически зыркал бы на окружающих волчонком. Но они этого не сделали, нет – они предпочли скормить жалость: еще горяченькая, кушай, не подавись!
Когда я устал дерзить, то свернулся в углу клетки, замкнутый, отчужденный, с единственной просьбой – не троньте! Но они продолжали расспрашивать, бомбардируя одними и теми же вопросами. Что думаешь о будущем? Как собираешься жить? Определился ли в жизни? И самое чудовищное было в том, что они не ждали ответов, потому что сами предвидели, знали исход.
Почему я оказался среди них? Ведь я не давал согласия. Мне просто скомандовали: «Ты живешь здесь и сейчас! Не спорь! Так делают все!» И это «делают все» гнобило, пожалуй, больше всего. Да, сто, двести, триста, пятьсот тысяч моих сверстников испытывали и испытывают нечто подобное, и что? Прикажете этим утешиться?
Не получается, особенно если рядом малознакомый старик в бейсболке “USA”, которую он считает основным предметом своего праздничного гардероба.
– Ну чаво у тебя, Аркадий?
– Все хорошо, Егор Семеныч.
– В армию скоро?
– Нет, в институт.
– Это зачем?
– Учиться.
– Ну ты это… смотри… но портянок-то нюхнуть надо…
Сколько предстоит таких бессмысленных в своем однообразии диалогов прежде, чем я повалюсь с простреленной раздражением головой? Скольких собеседников я должен убедить в своей инородности прежде, чем все Каштаны примут меня за юродивого?
Да, я никогда не принадлежал к деревенским. Моя природа была иного свойства. Оттого я мечтал жить в городе. И, слава богу, мама туда меня забрала. Хотя бабушка была против.
Конечно, в Севастополе я тоже не испытывал счастья, но там, среди улиц, коих оказалось больше, чем пять, можно было затеряться. Уйти от ощущения того, что все повторяется снова и снова, день за днем. Сбежать от дежавю, пахнущего навозом. И пусть внутри городского меня все по-прежнему повторялось, но зато декорации менялись. И это стало иллюзией развития, воспринятой мной с радостью и благодарностью.
Но пришлось – бабушка не отпускала, бабушка и вернула – возвратиться в деревню, в пять улиц, где из нового – только нежно-желтого цвета мечеть, выросшая у ставка, напротив Дома быта.
Глядя на запустение и разруху, съедаемый гордыней, я уверял себя, точно хлестал по щекам, что не может человек, подобный мне, здесь остаться, и в то же время ощущал, как деревня поглощает, растворяет меня. Особенно острым это чувство было во время общения с людьми, невольно – а может, и вольно, не знаю – убеждающими меня в том, что либо придется стать таким, как они, либо погибнуть. Вот только к смерти здесь давно все привыкли; она вечна, как та не высыхающая лужа у нашей школы, она повсюду, и мы, жители Каштан, законсервировались в ней, обреченные на формальное присутствие.
Но и у подобного забвения есть надежда – она в таких, как мой брат, своих, затхлых, и в то же время чужих, глотнувших свежего воздуха. Они не меняют направления, но дуют иначе. Не уехали в город – остались в Каштанах, чтобы возродить деревню, став ее новым строительным материалом.
Вот он стоит – крепкий, ухмыляющийся, всем довольный. Одет в светлые штаны и клетчатую рубашку. И если мои глаза широко раскрыты, то его, как у настоящего каштановского мужика, слегка прищурены. Да, он свой деревенский парень.