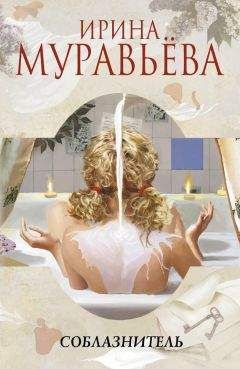– Да, вроде бы болен, – сказал он сквозь зубы.
– Тебе нужно лечь, – прошептала она. – Зачем ты приехал?
В тошнотворной пелене появилась Васенька, которая выхватила откуда-то подушку, подбежала к нему и стала подсовывать эту подушку ему под спину. Бородин хотел было поцеловать ее, но не смог дотянуться губами до ее взволнованного личика.
– Васютка, – сказал он. – Дочурка моя…
– Пойдем, я тебе помогу, и ты ляжешь, – шепнула Елена, склонившись над ним.
Он уперся зрачками в низкий вырез ее летнего платья, увидел начало ее белоснежной, знакомой груди и привстал.
– Не бойся, сейчас все пройдет, – сказал он, борясь с дурнотой.
И тут очень громко заплакала Васенька. Ему нужно было обнять ее крепко, прижать к себе и успокоить. Он сделал усилие, встал и дотронулся рукой до пробора в ее волосах. Он чувствовал, что он стоит, он вдыхал ее детский запах, чудесный, молочный, насквозь разогретый полуденным солнцем, но тело его продолжало лежать на той же ступеньке и не шевелилось. Потом он увидел, что лес растворился и освободилось пустое пространство, в котором он был как-то странно прозрачен и мог подниматься все выше и выше. Идущий из воздуха, тонкий, как дождь, пронзительный звон его мучил. Он был то красным, то желтым, но именно звон и разъединял его с ними: с Еленой и плачущей Васенькой, с колкой травой и этой ступенькой, где кто-то лежал. Он знал, что лежащим был он, и его сейчас становилось все меньше и меньше. Потом появился дымок от костра. Потом все исчезло.
Он двинулся ощупью, но не вперед, не в сторону и не назад, – в никуда, – и тут его стали вращать в пустоте. Но и пустоты больше не было. Было отсутствие всех и всего, навсегда.
«Ведь я же умру так! Ведь так я умру!» – почувствовал он и вдруг понял, что умер.
Куда-то его уносило. Куда? Он сделал усилие и обернулся. Ступенька, на которой только что лежало его тело, была пуста, от дома отьезжала машина «Скорой помощи». Какие-то люди стояли, но он их почти не заметил.
Васенька бежала вслед за машиной и протягивала вперед руки. На левом мизинце был розовый пластырь.
– Мой папочка! Папочка мой! Подожди! Куда вы везете его? Где мой папочка?
Она напоролась на корень, упала, но руки свои продолжала тянуть, и крик ее стал еще громче:
– Мой папа! Пожалуйста, не умирай! Никогда! Останься со мной! Папа! Папочка, милый!
Бородин вдруг ясно и совсем близко увидел ее лицо. Внутри темноты только это лицо и было единственным маленьким светом.
– Ну не умирай! – задыхалась она. – Ну не уходи от меня! Папа, папочка!
Прекрасная стояла погода в Швейцарии. И в горах было прекрасно, и на озерах, и в каждом до белого блеска промытом швейцарском ухоженном доме, где, если притронуться пальцем к салфетке, то эта салфетка так хрустнет, как будто вы ей наступили на самое горло.
«Зачем это все? – удивляюсь я тихо. – Ну вымоешь ты тротуар своей щеткой, а что в животе у тебя? Ах ты, бедный! Бактерии ведь и горючие газы! А в горле? А в этих… как их? В гениталиях? Кому рассказать, ни за что не поверят. Ты вот на себя посмотри беспристрастно, да и призадумайся. Что? Страшно стало? Ну ладно, скреби. Да скреби, говорю!»
И на конференции было прекрасно. Собрался народ. Были и пожилые, и толстые были, но были и тонкие. Красавиц я там не заметила. Правда, пришла в перерыве одна недурнушка, но видно, что очень привержена спорту: на каждой руке по огромному бицепсу.
Иван Ипполитович сидел в четвертом ряду с краю и слушал докладчиков. Раздражение его нарастало. Коллега из Франкфурта, который еще недавно восхищал профессора Аксакова своим абсолютно спокойным и бодрым отношением ко всему на свете, включая саму даже жизнь, а тем более смерть, и каждые семь-восемь лет вступал в новый брак, чтобы не заскучать, а прежние жены как будто бы таяли, подобно снегурочкам, и не мешали, – коллега из Франкфурта, большеголовый, прекрасно одетый, с клычочком во рту, которого добрый Иван Ипполитович до этого дня вовсе не замечал, читал свой доклад. Доклад назывался неброско: «Когда мы достигнем бессмертия и что нам мешает?»
«Мы отлично понимаем, что современная наука может создавать и уже создает искусственные органы человека. Вот печень и сердце нетрудно создать, все дело лишь в материалах. А мозг? А мозг посложнее, – и он усмехнулся, сверкая клычочком, – поскольку: что мозг? Мой мозг – это я. Сетчатка моего глаза – это последний экран, на котором отражаются предметы внешнего мира. Физически там отражаются. Далее это отражение рассыпается по миллиону волокон зрительного нерва и тут же разносится. Как и куда? По разным структурам огромного мозга. И что получается? Я создаю психический образ вселенной, людей, предметов, всего, что мы понимаем как физику мира. Ведь что предлагает природа? Она говорит нам: физический мир – есть мир твоей психики, воображенья… Вот я закрываю глаза, – он закрыл, – и вижу себя, например, не стоящим на этой трибуне, а, скажем, летящим. Кто мне помешает увидеть такое? – Клычочек опять очень ярко сверкнул. – Нет силы, которая мне помешает. Однако сейчас отвлечемся от мозга, вернемся к телам, грешным нашим телам». – И он широко улыбнулся при этом.
Иван Ипполитович неожиданно представил себе грешное тело немецкого ученого без всякой одежды и даже без галстука. Его передернуло. Тело профессора напомнило рыночный свежий творог, который еще не отжат и сочится слегка мутноватой белесою жидкостью.
«Действительно: мозг – это я, – подумал он с ужасом. – Черт знает что!»
«Тела наши, – продолжал ничего не подозревающий докладчик, – умирают, поскольку стареют. Ну что тут поделаешь? А мозг умирает совсем молодым, поскольку находится в теле. И он обречен вместе с телом уйти. Зачем? Мозг рассчитан надолго. Лет, скажем, на двести, а то и на триста. И мы можем этому мозгу помочь. Мы будем его пересаживать, чтобы он жил свои двести, а то и все триста. Все наше вниманье должно быть направлено, – и он облизнулся, как кошка, – на обеспечение тела, которое должно будет стать новым домом для мозга. Люди будут жить до своей нормальной старости, но не будут бояться смерти, поскольку их мозг, их бессмертное «я», уйдет в тело робота. И я обещаю, что ждать нам недолго. Коллеги мои в Гютерслоу, которые лет уже десять как держат мозг гиппопотама в простой чашке Петри, сейчас приступают к задаче созданья искусственной кисти. Пока обезьяньей, но это пока».
«Он наш, Ваня! Наш! Ты на зубик взгляни! – шепнул чей-то голос на ухо Аксакову. – Мне папа сказал: «Это братик двоюродный. Вы, Ванечка, с ним разминулись маленько». В том смысле, что он городской такой парень, а я-то промыкалась век свой в Дырявине, но кровь у нас, Ваня, одна, одно семя!»
Иван Ипполитович обежал глазами зал: на лицах сидящих блестело внимание. Никто не хотел умирать без того, чтобы не пристроить свой мозг пусть хоть в кружку и не обеспечить ему долголетия. Легонечко хлопнула дверь. Иван Ипполитович сразу заметил знакомый передник Валерии Курочкиной, которая нежно ему улыбнулась и даже слегка помахала ручонкой.
Была, значит, ведьма, была в этом зале, и скучно ей стало: двоюродный братец с его очень белым творожистым телом ей не приглянулся, капризной чертовке.
Книга седьмая и последняя
В Анатолии, в одной из ее самых живописных деревень, готовились к свадьбе: женился Ислам наш на очень хорошей, и можно сказать, что завидной невесте.
Согласитесь, дорогие мои читатели: когда роман подходит к концу, нельзя же без свадьбы. Не нужно мне славы, не нужно богатства (вообще хорошо бы, конечно, но ладно: как есть, так и есть!), но чтобы меня укоряли в занудстве и в том, что в романе ни строчки веселой, а все одни страхи, да ахи, да вздохи, да море несчастной любви и к тому же по-русски я вовсе писать разучилась, – вот этого точно не переживу.
Теперь, мои судьи, в очечках и без, в коротеньких брючках и брючках подлиньше, вы губки свои подожмите, а глазки раскройте пошире: эх, будет вам свадьба!
Женился Ислам по любви. Вы скажете: «Что-то уж он очень скоро! Еще бы мог и поскучать, и поплакать!» А я говорю вам: «Не мог. Вот и все». Возьмите хотя бы Ромео с Джульеттой. Кто знает, что было бы, если бы семьи их не враждовали, как дикие волки? Насколько хватило бы этой их страсти? А вдруг бы Ромео влюбился в другую? А вдруг бы Джульетта, в вишневом берете на черных кудрях или в розовом жемчуге на тоненькой шее, поймала чужой восторженный взгляд на себе и вся вспыхнула?
Нет, я понимаю: обеты, венчанья, ресницы опущены, пальцы дрожат, – все это серьезно, все это навеки и все это для продолжения рода, но жизнь молода и крепка, будто яблоко, и столько в ней жара, и столько в ней силы, что ты ее хоть под асфальт закатай, она не уймется.
Вот так и с Исламом. Вернувшись в деревню нетрезвым и жалким, Ислам сразу лег на ковер и забылся. Во сне он увидел, как девушка Вера пришла и опять строит нежные глазки.