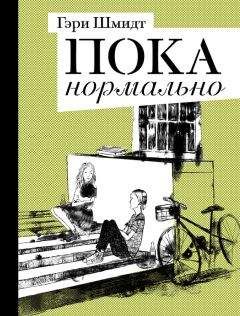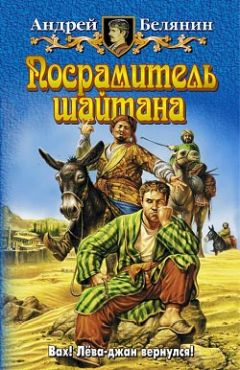Весь остаток дня он мучился в поисках ответа, давил, приглушал в себе не дающее ни секунды покоя тяжелое предчувствие; бродил возле будки, наблюдал за похожим, зачем-то тщательно обнюхивал мелкие камешки, траву, мусор под лапами… А потом похожий на хозяина взял и сбил молотком кольцо цепи со стены будки и повел Шайтана к чудищу. Открыл дверцу и приказал:
– Запрыгивай!
Шайтан попятился, присел на задние лапы. Испуганно глянул на похожего.
У того в глазах – затравленность и боль, но вот взгляды встретились, и похожий мгновенно стал злым, чужим каким-то, опасным.
– Прыгай давай! Ну-ка!
Шайтан, сидя, пополз еще назад и взлетел от удара-пинка. Взвыл, бросился прочь.
– Стоять, сказал!
Цепь натянулась, дернула Шайтана так, что ошейник сразу перекрыл дыхание. В глазах стало темно… Шайтана потащило обратно к чудищу.
– Еще с тобой, скотина, возиться, – тоже словно придушенно шипел похожий. – Всех уговаривать!.. Лезь д-давай!
Он схватил Шайтана под мышки и приподнял. Шайтан забил в воздухе лапами, замотал шеей, стараясь выскользнуть из объятий похожего; увидел рядом, совсем рядом с пастью темно-белую руку с короткими редкими волосками. Ему очень захотелось куснуть эту руку, с двух сторон сжать зубами, чтобы ослабла и отпустила его, но какой-то огромной силы запрет, запрет, который был объявлен далеким-далеким предкам Шайтана, не позволил этого сделать. Наоборот, он почувствовал, что обязан повиноваться, смириться с волей этого похожего на хозяина человека.
Так он оказался в большой душной голове чудища с прозрачным черепом. Стоял на чем-то мягком, высоком, подогнув лапы, закрыв брюхо поджатым хвостом. Озирался, осторожно ворочая шеей, звякая при каждом движении бесполезной сейчас, ненужной цепью.
– Лежать! – приказал похожий, и Шайтан тут же, как стоял, лег на мягкое.
За его спиной хлопнуло. Похожий куда-то пошел.
Маленько обвыкшись, Шайтан приподнялся и сразу увидел: похожий раскачивал его будку, вытягивал ее из земли. Вот вытянул, повернул на попа, тряхнул несколько раз. Из будки посыпались сено и старые, обглоданные до ровной желтизны кости… Шайтан собирал, копил их с давних пор. Иногда зимними длинными ночами, когда от мороза невозможно было уснуть, он доставал их из сена, перебирал, обнюхивал, скреб клыками, и ему становилось теплее, уютнее; кости помогали дождаться момента, когда на небе появлялся живой и дарящий жизнь ослепительный шар… А теперь его единственное богатство, его спасение от мороза летит на траву, как обычный сор.
Шайтан опустился на мягкое, спрятал морду между передних лап, зажмурил чешущиеся, сырые глаза.
…Ехали очень долго, или это ему так показалось. Сперва он боялся и вертелся волчком, мотая цепью, путаясь в ней, смотрел, как мелькают мимо заборы, деревья, как проскакивают совсем близко другие чудища. Протяжно, тоненько поскуливал.
– Лежать! – то и дело кричал похожий; Шайтан поджимал лапы, замирая, но очередная кочка или ямка на дороге подбрасывали его, и он снова начинал вертеться, видел летящий вокруг с бешеной скоростью мир, скулил, и похожий опять кричал: – Лежать, тебе сказано!
Вскоре, правда, Шайтан осмелел и с завистью, почти восхищением подумал: «Вот бы так же бегать и не уставать!» Даже обо всем остальном, страшном и непонятном, в тот момент забыл…
Уже по темноте устраивались на новом месте. Шайтан мало что мог видеть, о чем соображать – после пережитого за сегодняшний день он еле держался, чтоб не упасть, его шатало, в пасти было горько и горячо, как будто сожрал ядовитую букашку… Повинуясь дерганью цепи, он шел куда-то, отрешенно наблюдал, как похожий приколачивает гвоздями кольцо к бревну какой-то постройки, но все же обрадовался появлению его будки, пускай разоренной, но родной. И когда похожий сунул в нее охапку сена и сказал:
– Ну, обживайся. Спи, – без промедлений залез внутрь, свернулся и накрыл морду хвостом, хотя было тепло.
…Новая территория Шайтану очень не понравилась. Это было то, что называется хоздвором – повсюду завалы какой-то рухляди, кривые поленницы, стоят попиленные козлы, штабеля ящиков под трухлявым навесом, банки с потеками висят на жердинах редкой изгороди… Отсюда не было видно ни крыльца, ни двери в избу, ни калитки на улицу – тех мест, которые Шайтан с юности определил как главные места своей охраны… Обследовав окружающее его теперь пространство, он понял, что охранять здесь нечего…
Оказалось, исчезновение хозяина – еще не самое страшное. Да, было тревожно и странно, когда он вдруг не появился на крыльце, как всегда, не улыбнулся и не заговорил с Шайтаном; конечно, те несколько проведенных в заточении дней были большим мучением, почти что невыносимым, но теперь стало еще хуже. В этом хоздворе Шайтан окончательно потерял смысл жить дальше… Первые дни он подолгу стоял, вытягивая из досок будки остатки запаха своего дома, своих воробьев, травы, что росла рядом с будкой. Но запах быстро улетучивался, выветривался, а больше ничего, напоминающего о том месте, где Шайтан провел всю жизнь, здесь не было.
Правда, похожий принес и составил под навес несколько ящиков и сложил обрезные доски, которые были явно привезены на чудище, но от них исходило так мало домашнего духа, что, как Шайтан ни старался, не мог принять их за частицу своего прошлого мира.
Очень резко он почувствовал старость; он повидал много старых псов, всегда презирал их, с удовольствием облаивал и гонял. Эти псы бегали в общей собачье стае, так же, как и остальные, высунув язык и облизываясь, жадно дышали призывным запахом суки, но стоило крепкому псу рявкнуть на старого, и он тут же послушно отскакивал в сторону. У этих псов почему-то вовремя не вылезала старая шерсть – на боках всегда висели мертвые, седовато-грязные колтуны; если подойти к калитке, за которой живет такой пес, и пометить ее, то он чаще всего сделает вид, что не заметил, притворится спящим… И вот теперь Шайтан вдруг почувствовал, что стал старым. Наверное, из-за потери хозяина, унизительного сидения в будке, непонятного переезда он постарел, одряхлел. Постарел и одряхлел раньше времени.
Как только темнело, Шайтан забирался в свой домик, сворачивался там, как бы желая спрятаться в самом себе; он знал, что утром тело будет ломить, лапы станут деревянными, а в голове образуется словно камень вместо мозгов. Он с трудом засыпал, зато спал крепко, не слыша теперь ночных шорохов, гула чудищ-машин, лая соседских собак, протяжного мяуканья встретившихся для поединка котов… Утром приходилось долго разминать, растягивать дрябловатые мышцы, но делать этого не хотелось, даже вытряхивать сено и пыль из шерсти было лень. И, побродив немного вокруг будки, ощущая, какая тяжелая и неудобная стала цепь, Шайтан ложился на землю и без особой охоты ждал, когда принесут еду.
Кормил его только похожий. Хозяйку он не видел здесь еще ни разу; случалось, забегала какая-то женщина и, не обращая внимания на неуверенный лай Шайтана, снимала с жердины банку или набирала охапку дров… Похожий приносил незнакомую Шайтану кастрюлю, выливал из нее похлебку в незнакомую миску. Шайтан, вильнув хвостом, начинал есть.
Вкус у еды тоже был другой – казалось, в ней меньше жира, густоты, а хлеб был кислым и пустоватым.
– Ну что, бродяга, – заговаривал иногда похожий, присаживаясь на ящики и дымя палочкой. – Как тебе тут? Ничего?
Шайтана давно обижало это слово «бродяга», да и вообще хотелось много чего сказать похожему, пожаловаться, узнать, что же все-таки случилось, почему он оказался здесь, надолго ли, где хозяйка… Он поскуливал, даже, бывало, взлаивал, но похожий лишь кивал в ответ, кивал сочувствующе и непонимающе:
– Ну-ну, ла-адно… Хорош, бродяга. Все нормально будет… Хорош…
Если Шайтан продолжал скулить, то похожий уже сердился:
– Хватит, сказал! Мне, думаешь, легко это все?… Мне б твои заботы, собака… Хватит ныть! Ну!..
Запахло снегом. Шуба плохо спасала, еще не до конца была она готова к зиме, и на рассвете, когда воздух становился особенно колючим, Шайтан дрожал и клацал зубами, возился на сене, стараясь поглубже в него забиться. Когда лежать было уже невозможно, он вылезал из будки и стоял, неотрывно глядя в ту сторону, откуда выползал на небо ослепительный шар, ловил шкурой лучи… Но шар становился все менее ослепительным и горячим, и легче было, когда шел дождь – холод не так донимал, постукивание капель усыпляло.
Однажды неожиданно и как-то запросто появилась хозяйка. Вошла, даже не взглянув на Шайтана, нагнулась, стала копаться в ящиках под навесом. Некоторое время он просто смотрел на нее, проверяя, на самом ли деле это она, а потом, убедившись – хозяйка, завилял хвостом, тихонечко заскулил. И, не дождавшись ответа, громко, во всю глотку гавкнул… Хозяйка обернулась, бросила раздраженно:
– Да замолчи ты! – Снова занялась ящиком, пробормотала себе под нос: – Задергали всю… то то, то это…
Что-то чужое, зловещее, ночное было в ней, в ее маленькой сгорбленной фигуре, в тихом неразборчивом бормотании, и из ящика слышался неживой, пугающий звяк опасных для Шайтана вещей. Ему стало страшно, но страшно по-особому, будто видел он сейчас не живого человека, а того, что не дышит, но почему-то шевелится, говорит; так же случалось и раньше – ему вдруг казалось, что за воротами идет не просто человек, а вот такой, не дышащий, которого пугать и даже кусать бесполезно – он не чувствует боли, ничего не боится, и Шайтану оставалось лишь молча надеяться, что он не полезет в ограду, сам его не закусает… И сейчас, здесь, он вдруг решил, догадался, что именно из-за нее, из-за вот этой, что так долго называлась хозяйкой, а оказалась такой, все и случилось: исчез единственный, кто любил его и кого он любил; по ограде бродили чужие, а он сидел взаперти, бессильный и бесполезный; из-за нее его привезли сюда, поселили среди рухляди и никому не нужного хлама, из-за нее так быстро он стал немощным старым псом. И вместо того чтоб пожалеть, сказать что-то важное, потрепать между ушами, все объяснить, она не хочет его замечать, на его приветствие отвечает окриком и бормотанием.