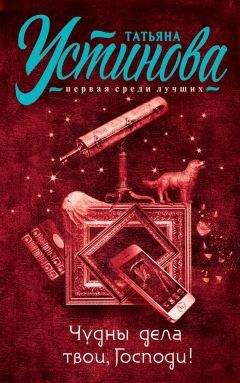Надежда Сидорова умерла вскорости. И магнит не помог. Но она так и осталась в моих глазах: круглолицая, лукавая, неповзрослевшая.
Хорошо, что она была.
После перестройки в Европе возник огромный интерес ко всему русскому, и к писателям в том числе. Европе стало интересно: кто же там скрывался за железным занавесом?
В составе писательской делегации я приехала в Париж. На меня, как собаки на кость, буквально набросились французские издательства: восемь маленьких и три больших. Я выбрала большое и престижное издательство. Сейчас забыла, как оно называется. Как-то очень красиво. В этом издательстве издавались наши классики – ушедшие и живые. Я решила: здесь мне самое место.
Заведующей отделом славистики оказалась некая Каролина Бобович, француженка польского происхождения.
Я пришла к ней на переговоры.
Первое впечатление – противная. Второе впечатление – очень противная. Третье впечатление – дура. Так что в сумме получилась: противная, очень противная дура.
Мадам Бобович выглядела без возраста: от сорока до шестидесяти. Худая, но не тонкая, а просто недокормленная, с тревожным блеском в глазах.
Я ей тоже не понравилась, это было заметно по выражению ее лица. Причина, я думаю, в том, что мне надо было выплачивать гонорар, а Каролина Бобович не любила расставаться с деньгами, даже чужими, казенными.
Короче, мы встретились.
– Я могу предложить вам десять тысяч франков, – предложила Каролина Бобович. При этом смотрела на меня не моргая, как рыба.
– Двадцать, – сказала я.
Мадам молчала, видимо, подсчитывала в уме расходы и доходы. На Западе полагали, что русские слаще морковки ничего не ели, до сих пор не слезли с деревьев, качаются на хвостах и их можно купить за копейки. Я знала, что французский франк в пять раз меньше доллара и десять тысяч франков – не деньги.
– Ну ладно, – согласилась мадам Бобович. – Пусть будет двадцать.
Я ушла в хорошем настроении. Деньги были нужны. Хотелось приодеться в Париже, прошвырнуться по модным домам и приехать в Москву настоящей парижанкой. Хотелось привезти домой два компьютера: один для работы, другой на продажу.
Мы договорились с мадам Бобович о следующей встрече. Она вручит мне договор, и у меня еще будет время для шопинга.
В этот вечер наша писательская группа отправилась на прием. Нас все время куда-то приглашали.
– Ты сколько собираешься попросить? – спросила я у своей подруги (тоже писательницы, разумеется).
– Сорок тысяч, – сказала она, жуя.
– Не дадут.
– Не дадут, но испугаются. И будут рады, если я соглашусь на тридцать.
Я поняла, что бизнес-способности – мое слабое звено. Думаю, что мадам Бобович тоже это поняла. Это заметно.
Настал день встречи в издательстве. Мадам Бобович сидела на своем месте в скучном платье и со скучной мордой, хотя «морда» – это у животных, и скучных морд не бывает. Все животные, даже козы, имеют очень милые лица.
Каролина Бобович поджала губы и сказала:
– Я передумала платить вам двадцать тысяч. Вы их не стоите. Кто вы такая?
– Я Токарева, – напомнила я на тот случай, если она забыла.
– И что такое Токарева? – обидно усмехнулась Бобович. Ей хотелось добавить: «говно на лопате», но она не добавила, только скривила рожу, как будто перед ней положили этот самый продукт.
Мадам Бобович действовала по привычной схеме: унизить собеседника, втереть его пяткой в землю, и уже оттуда, из-под пятки, будет невозможно выпрямиться в полный рост. И жертва согласится на предложенные условия.
– Я готова вам заплатить десять тысяч франков. Первоначальную сумму, – сказала Бобович.
Она рассчитала, что через два дня делегация уезжает, у меня не остается времени для поиска другого издательства и, загнанная в угол, я соглашусь на ее условия. Все-таки десять тысяч франков лучше, чем ничего. Но «я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». И не люблю, когда меня унижают (как будто кто-то это любит).
– Я подумаю, – хмуро молвила я и пошла к выходу.
– Одну минуточку! – всколыхнулась мадам. – У вас есть мой телефон?
Она протянула мне визитку. Я взяла, хотя знала, что визитка мне не понадобится. «У русских собственная гордость», – не помню, кто это сказал.
– Я жду вашего звонка, – нервно объявила мадам.
Мне захотелось сказать ей пару слов по-французски, но я промолчала. Я сомневалась в своем произношении.
На следующий день состоялся еще один, заключительный прием.
Еды было навалом. Наши ходили и ели без остановки. Ели впрок, поскольку было неясно, удастся ли поесть вечером.
Я стояла с бокалом французского вина – печальная, но не раздавленная. Скорее, упертая. Обидно, конечно, возвращаться без компьютеров, но зато я не увижу больше противную, очень противную дуру.
Ко мне приблизился квадратный француз с круглыми рыжими глазами. Как у петуха.
– Жан-Люк. Я представляю издательство «Фламарион».
Он говорил по-русски с французским акцентом. Было очевидно, что это француз с прекрасным знанием языка.
– Я ваш поклонник, – сказал Жан-Люк.
– Спасибо…
– Вы одна из самых ярких писателей своего поколения.
– Да ладно… – смутилась я.
– Нет, нет, поверьте. Вы сумели услышать месседж своего времени и передать его дальше. Я даже не знаю, как вам это удалось.
Я почти физически почувствовала, как вылезаю из-под пятки Бобович и расту, расту вверх. Жан-Люк вернул мне мой «идеал Я», мое попранное достоинство, и, более того, он меня возвысил. И я парю. И уже посматриваю на других сверху вниз, из-под облаков.
– Я предлагаю вам гонорар сорок тысяч франков, – произнес Жан-Люк.
Мои мозги закипели от счастья.
– А где вы раньше были? – удивилась я.
– Я выжидал. Я всегда так делаю. Выжидаю до последнего дня, а потом удваиваю гонорар.
– Но я завтра улетаю…
– Ваш самолет в четырнадцать часов. Я буду у вас в отеле в девять утра. Мы вместе позавтракаем и подпишем документы.
Сказка… Сон…
Жан-Люк явился ровно в девять утра.
Кровать в моем номере занимала четыре метра, а сам номер – пять метров.
Мы сели на кровать. Больше некуда.
Жан-Люк вытащил из папки документы, которые надо было подписать.
Я подложила под листки жесткую папку Жан-Люка. Подписала договор в двух экземплярах: один ему, другой мне.
История со счастливым концом.
Но ведь я могла согласиться на предложение Бобович и тогда не досталась бы Жан-Люку.
– Вы могли меня упустить, – сказала я.
– Да. Я рисковал. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Я недавно перехватил у Бобович знаете кого?
– Откуда же я знаю? – Я вопросительно смотрела на Жан-Люка.
– Михаила Горбачева! – объявил он.
– Боже…
– Они с Бобович договорились на вторник на десять часов утра, а я приехал в восемь утра и удвоил цену, так что, когда Бобович притащилась в отель на своем драндулете, было поздно. Ее тогда чуть не выгнали с работы. Хозяин сказал: «Сосредоточьтесь на другом издательстве».
– Но не выгнали?
– Да. Хозяин дал ей шанс, но предупредил, что, если еще раз случится нечто похожее, она потеряет место. А потерять работу во Франции – не то что в России. У вас в России в советские времена не было такого классового расслоения. А в Париже… ты – как на корабле. Приходится менять палубу, спускаться ближе к трюму. Другое окружение, другая еда, полная потеря статуса. Некоторые стреляются.
Бедная Бобович. Ее сгубила жадность и глупость. Она во второй раз наступила на те же самые грабли.
Тем не менее я должна ей позвонить, поставить в известность. Попрощаться, по крайней мере.
– Вы не могли бы позвонить Бобович? – спросила я.
– Авек плезир, – ответил Жан-Люк, поднимаясь с кровати.
– Вот визитка…
– Я знаю, – отмахнулся он. – Что мы ей скажем?
Можно сказать: «Я от тебя ушла, кто ты такая?» Но зачем мстить? Это мелко.
– Скажите так: Токарева благодарит вас за внимание к ее творчеству. Но у нее переменились планы.
Жан-Люк набрал нужные цифры. Проговорил все, что мы наметили.
– Кто это? – вскричала Бобович. – Кто? Как? С кем я говорю? Назовите имя, имя, имя…
С Бобович была буквально истерика. Она поняла, что придется переходить на другую палубу и уже пора собирать вещи.
– Хотите что-нибудь сказать? – спросил Жан-Люк.
– Передайте оревуар, – ответила я.
Жан-Люк попрощался и снова сел на кровать. Больше сесть было не на что.
Нависла сложная пауза.
Париж. Номер. Кровать четыре метра. Мужчина и женщина.
Глаза у Жан-Люка рыжие, умные, авантюрные.
Когда мужчина умен и талантлив, о внешности забываешь. Но… где-то далеко за нашими спинами металась дура Бобович, мельтешила, мелькала, вскрикивала, будто в нее стреляли.
У русских есть поговорка: «На чужом несчастье счастья не построишь…»
Я вздохнула и поднялась с кровати, ставя точку на своем пребывании в Париже. Скоро самолет, пора собираться. Я не могу уезжать больше чем на десять дней. Я хочу домой.