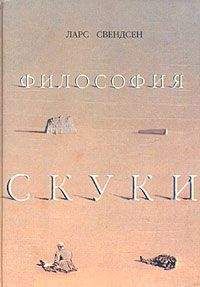Жена, как бы между прочим, крутит Устину у виска. Он не обращает внимания.
– Иллюзия № 2. Что мир такой, каким его изображает телевидение и рисуют газеты.
Жена накручивает волосы на палец.
– Иллюзия № 3 заключается в том, что мы, как дети, верящие в непогрешимость родителей, убеждены, что из прошлого дошло только лучшее, а мы наследовали достойнейшим.
Жена нервно теребит ухо.
– Хотя нет, я ошибся в приоритетах, иллюзия № 1 – Бог. Тебе ведь кажется, что ты нужна кому-то ещё кроме самой себя.
Устин увлечён. Он размахивает руками, приводя убедительные аргументы, выдвигает контраргументы, которые легко опровергает, и не замечает, что давно разговаривает со своей тенью.
– Псих, – доносится из ванной, когда он смолкает. Открывается кран, и вода журчит так, что остального не разобрать.
Схватив с вешалки пальто, Устин хлопает дверью.
Осень. Под ногами шуршит листва. Не холодно, и Устин не надевает пальто, перекинув его через руку. Город, как муравейник, в котором ходят раз и навсегда проложенными тропами. «А машины нужны, чтобы быстрее по ним двигаться», – глядит по сторонам Устин, пока ноги, загребая лужи, несут его в игровой клуб.
У меня вытягивается шея, вырастают конечности, меняется пол.
Я снова становлюсь дылдой.
Вижу себя со стороны:
Девка-верзила шагает по городскому муравейнику – джинсы мужского размера, куртка для здоровенного толстяка-байкера, неразлучного с банкой пива, на голове причёска из разряда «чёрт знает что», а в голове мысль, что автомобили созданы для того, чтобы быстрее доставлять нас по одним и тем же хоженым маршрутам.
– Устина!
Проскочив на «красный», резко тормозит чёрный джип, визг шин об асфальт режет уши, и на тротуар выскакивает Он.
Замирает сердце?
Учащается пульс?
О, нет, всё спокойно.
– Тебя ни с кем не спутать.
– Тебя тоже.
Стоим, болтаем. Он по-прежнему тренирует университетскую команду. В прошлом году выиграли первенство города.
Я рада.
Главное, не выходить из роли.
Он постарел. Возле губ безусловные складки, и волосы поредели. Нет, до лысины ещё далеко, однако уже заметно. Вернуться в спорт? О, нет, куда такой тётеньке. Не замужем. Были предложения, но одной лучше. Ты тоже? Ну, тогда ты меня понимаешь.
Он смеётся.
Он вспомнил старое.
Он сожалеет.
А я нет.
В любовь вечную, любовь до гробовой доски, я давно не верю. Весь вопрос в том, кто бросит первый. И не надо упускать своего преимущества! «Не простишься ты – простятся с тобой», – твержу я себе каждый раз, расставаясь с очередным мужчиной.
Да, нам было хорошо вместе.
Теперь хорошо порознь.
Ему делается неловко. Он смущен и немного расстроен. А если бы сложилось по-другому? Да, если бы? Может, тогда на выпускном вечере, куда Он притащился с огромным букетом – розы были великолепны, до сих пор помню их пьянящий аромат, их жертвенный кровавый отлив, – может быть, тогда не стоило быть резкой, разыгрывая пресыщенную интеллектуалку? Это вышло вульгарно. Да, задним числом это надо признать. Но накануне мы поссорились. Из-за чего? Из-за какого-то пустяка, какая разница. Все ссорятся по пустякам, а расходятся всерьёз. Может быть, тогда стоило уступить? Не задевать его самолюбия? Но уступишь раз, другой, и тебя уже нет, есть только твоя тень, которая всегда отступает, стоит на неё надвинуться. К чёрту воспоминания! Перебирать, что было бы, если бы, и где допущена ошибка. Будет тысячи прошлых и ни одного будущего.
– Знаешь, а я тебе благодарна.
– За что?
– За то, что мы встретились. За то, что разошлись.
Он опять растерян.
Он не понимает.
А всё же хорошо, что мы расстались!
Я вспоминаю:
Студенты от меня дистанцировались. Те немногие, кто решались пригласить меня на свидание, узнав, что я не вожу машину, не разбираюсь в рок-музыке, не умею танцевать и не пробовала себя в групповом сексе, со мной обычно прощались. Одна, две встречи. А тут на последнем курсе появился Он! Галантный, взрослый. Принадлежащий к иному сословию – касте наших учителей, тренер ведь тоже профессор своих спортивных наук. На факультете наш роман вызвал целый переполох – растерянное недоумение наших мальчиков и зависть подруг. Это продолжалось полтора года. А точнее, год, шесть месяцев и семнадцать дней. До выпускного бала, куда он принёс розы. Было жарко, шумно. А ещё этот чертов каблук! Я чувствовала, как он шевелится под моей тяжестью, готовый вот-вот сломаться. Я иду – хруп, хруп, хруп, – поворачиваюсь, смеюсь, а все мысли о его последнем издыхании. До сих пор, стоит вспомнить, в ушах появляется это угрожающее хрупанье. Зачем я тогда поддалась на уговоры и надела туфли? Ах, да, форма была обязательной – длинное, наглухо закрытое платье а ля монашка, без малейшего намёка на декольте, со строгим поясом на талии по моде тридцатилетней давности, и аккуратно уложенные волосы, – университетские ханжи, якобы блюдущие традиции, умели о себе позаботиться. Видимо, это напоминало им юность. Что ж, о вкусах не спорят – их навязывают.
Я стояла с букетом роз.
– Потанцуем?
– Ты же знаешь, я не умею.
Он стал настаивать. Взял за локоть. До сих пор стыдно за свой грубовато пьяный смех. Что на меня нашло? Может, я просто перебрала? Или виноват хрупающий каблук, на котором качало, как на море в шторм? Он пробовал отвезти меня домой. Как это благородно с его стороны! Или хотел заняться со мной любовью? Во всяком случае он легонько шлёпнул меня ниже спины, не оставляя сомнения в наших отношениях. Не знаю, что мне взбрело: выдернув руку, я дала пощечину. Вокруг все замерли – и танцевавшие, и оживлённо говорившие, и рассыпавшиеся по полу розу.
А всё же хорошо, что мы расстались!
Его губы, как и тогда, беззвучно шевелятся. Умер ректор? Какая жалость! Впрочем, он был уже совсем стареньким. Я понимаю его девятым чувством, и мне противно оттого, что я сюсюкаю, что вру – гадкий, противный старикашка с идиотской улыбкой на морщинистом лице, делавшей его похожим на обезьяну. Хоронили всем университетом? Так и должно быть, он был воплощенной добротой, знала бы, пришла обязательно, жаль…
Я вспоминаю:
Меня только что научили считать. Подставив табурет к окну, я залезла на него с коленками и, упершись локтями в холодный подоконник, пересчитываю свои пальцы, пешеходов на улице, звёзды на ночном небе, сколько осталось в нашей семье, когда умерла бабушка. Вчера на кладбище моросил дождь, и сырая земля налипала на лопаты. По небритым щекам могильщиков стекали ручьи – пот или вода, никак не могла понять я, – они угрюмо ворочали комья чернозёма, всё больше мрачнея, точно хоронили их, а не нашего родственника. Застучали молоки. Я стояла под зонтиком, сжимая руку отца, и считала, сколько гвоздей уйдёт на драпированную чёрным бархатом крышку. «Папа, а гробы заколачивают, чтобы покойник не убежал?»
Боже, какая я дура!
И бесчувственная.
Мы прощаемся.
– Увидимся?
– Обязательно.
Я улыбаюсь, я рада, что не вышла из роли. Мы обмениваемся телефонами, но оба знаем, что не позвоним.
Я иду домой.
Я больше не вспоминаю Под душем намыливаю голову яичным шампунем – он не щиплет глаз, я до сих пор не изжила детских страхов, – тру мочалкой шею, плечи, бедра, бесконечно долго, бегемотиха, которой воды требуется в несколько раз больше, чем обычной женщине, и тихо напеваю:
Отправив её под душ – из игры надо выходить корректно – Устин отправил себя на улицу. Был вечер, фонари двоили его тень, а лужи замерзли, хрустя под ногами колючей жижей. Мысли путались, стараясь сосредоточиться, Устин пытался о чём-нибудь думать, например, о том, что бы ещё сказал жене во время их разговора, когда перечислял её иллюзии. «Ты живёшь будущим, для тебя оно – неопределённость, которую слагают надежда и страх, именно поэтому ты терпишь настоящее. – И потом незаметно перешёл бы к своему оправданию: – А я знаю будущее наперёд, до деталей, точно оно уже состоялось – все наши ссоры, примирения, походы в супермаркет, утреннее бритьё, разговоры о ценах, деньгах, политике, нет, переживать это дважды невозможно. – И далее скороговоркой, чтобы не перебила, не ушла, хлопнув дверью: – Пойми, дорогая, мне невыносимо скучно, я должен иметь выбор, иногда становиться другим, быть изменчивым, как Протей…» «Протей? – уже поворотившись, удивится она. – Кто это?» Вместе с любопытством обнаружится ещё одна грань, разделявшая их – получившего кое-какое образование от невежды, но он, сделав над собой усилие, не стал бы заострять на этом внимание, терпеливо объяснив, кто такой Протей, плавно перешёл бы на свои школьные занятия, когда на уроках арифметики его учили считать. Он рассказал бы, что с тех пор ведёт свои подсчёты: «Двадцать тысяч раз застелить кровать, почистить зубы и посетить туалет, произнести десять миллионов слов, не сказав ничего нового». «Дурацкие подсчёты! – отмахнулась бы жена. – От них болит голова, и можно свести счёты с жизнью». О, моя прелесть! Ты очаровательна, в тебе столько жизненной силы, слепой воли, инстинктов, жажды существования! Дай я обниму тебя, может, часть её перейдёт ко мне? Но жена бы всего этого не сказала. Она заперлась бы в ванной, включив кран, чтобы его не слушать. И всё бы повторилось, как встарь. Или нет? Как теперь узнать? Жаль, в прошлое нельзя, задним числом ввернуть последнее слово, вставить в разговор свои «l’esprit de l’escalier»[1]. Может, это на что-нибудь повлияло? Может, будущее потекло бы по одному из других рукавов? И жена бы, фыркнув, не показала свою узкую спину? Если бы он изменял прошлое, настоящее было бы другим. Ах, если бы! Почему он всегда строит планы и всё остальное, основываясь на «если бы»? И почему живёт как если бы…