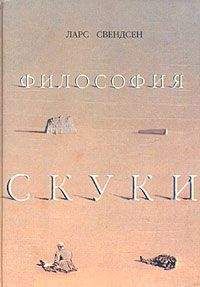Так они и замирают, притворяясь, что смотрят друг другу в глаза.
Вечер.
Луна качается на ложе синеватых туч.
Устин спит.
Во сне он видит усатого толстяка, с храпом развалившегося в это время на соседней полке, – не спи Устин, пришлось бы его толкнуть, – они едут в поезде, пытаются разговаривать, но никак не могут найти общего языка – сон поверхностный, он повторяет дневные сцены, только теперь в них вторгается долговязая девица в мужских джинсах, чуть близорукая, хотя до очков ей ещё далеко, она, скрючившись, заняла весь угол, щурится, поднеся к лицу журнал, в котором скоро должна быть опубликована статья Устина. Толстяк рассуждает о политике, высказывается о мировых событиях, размахивая руками, едва не задевает стаканы на столе, Устин меланхолично кивает, не опускаясь до спора. Усатый перебирает правительство, называя его членов по имени, словно с каждым из них на короткой ноге, ругает некоторых, приводя очевидные, по его мнению, ошибки, но в целом хвалит, Устину кажется, даже чересчур.
– От этих выживших из ума старикашек зависит наша судьба.
Кто это сказал? Устин? Он на такое не способен.
– Вы думаете?
К кому обращается усатый, прежде чем застыть с открытым ртом?
Неловкая пауза.
Устину неудобно.
Отложив журнал, девица встает. Она делает это так долго, что Устин, глядя на неё, задирает голову всё выше и выше, вот её тело, разгибаясь, уже вровень с верхней полкой, распрямившиеся ноги упирают её в потолок, и ей приходится согнуть шею, наконец, встав во весь рост, она нависает, как колодезный журавль.
Устин представляет:
Как это будет с нею? Да, как это будет?
Устин кажется себе пошляком.
Устин просыпается.
Он долго лежит с открытыми глазами, слушая усатого – его храп перешёл в мерное сопение, и уже нет нужды, протянув руку, его толкнуть, – и решает, сойдя с поезда, вместо всех дел прямо со станции отправиться в игровой клуб.
Потом снова засыпает.
Я чувствую себя, будто в чужом сне.
Еду в поезде – куда? – вместе с усатым толстяком и молчаливым мужчиной, который прикрыл глаза, чтобы не участвовать в разговорах, я с той же целью уткнулась в журнал. Усатый разглагольствует. Ему не нужна аудитория. Он самодостаточен. Браво! Я ему завидую, мне никогда этого не удавалось. Читать я уже не могу, стараюсь сосредоточиться на стуке колёс – раз-два-три, раз-два-три, – но его противный, скрипучий голос разрезает эту ненадежную шумовую завесу, пиявкой проникая в мозг. Он несёт ахинею. Не он первый, успокаиваю себя. Мелет чушь. Мало ли таких? Не помогает! Мне хочется заткнуть ему рот кляпом, залепить скотчем, написав: «Долой свободу слова!»
– От этих тупиц-толстосумов зависит наша судьба.
К чему это я? Ах, он хвалит власть.
– Вы думаете?
Когда не выдерживаю, я всегда что-то да залеплю в этом роде.
Он растерян.
Он подавлен.
Но желание двинуть ему не пропадает. Я медленно встаю. Молчаливый мужчина задирает на меня голову. Я повисаю, распластавшись над ними, как облако. Откуда во мне столько злости? К черту рефлексию! Надо дать, наконец, выход своему раздражению. Я успеваю представить, как он повалится на бок, схватившись за лицо, когда я дам ему пощёчину, прежде чем просыпаюсь.
В последний месяц я вывожу себя в люди, хожу по театрам – за всю жизнь столько в них не бывала! – слоняюсь по вернисажам; сгибаясь, как лупу подношу очки к картинам, развешенным на уровне моей груди, веду светские беседы – ах, живопись закончилась с Пикассо, но современные инсталляции не уступают в выразительности; бывали в павильоне технодизайна? Виртуальные 3D конструкции, восхитительная графика, параллельные миры, – раскланиваясь, завожу знакомства, принимаю приглашения на вечеринки, где хохочу до упада, и не понимаю зачем. Действительно, зачем? Кукла, у которой не спрашивают желания? Меня не покидает ощущение, что со мной не считаются, водя за собой, как собачонку. И зачем я вбила себе, что тренирую волю? Что я, взбалмошная, капризная, порывистая, иду наперекор себе, воспитываю характер, пытаясь выстраивать личную жизнь, вместо того чтобы отдаться природному домоседству, проводить все дни, уткнувшись в книгу, мечтая о чём-нибудь и поглощая эклеры из холодильника. Зачем я, как Мюнхгаузен, вытаскиваю себя за волосы из болота своей неубранной, запущенной квартиры, отправляя в огромный город – такое же болото, населённое лягушками? Ну, здравствуй, чудовище, здравствуй, чёрная дыра, здравствуй, серийный убийца, о подвигах которого предпочитают молчать. Я медленно брожу по улицам, собирая башмаками пыль, топча окурки и палую листву.
Что я вижу:
Ветвистые тополя на бульваре, мальчишек, играющих в «казаков-разбойников», зашторенные окна, старуху, жующую на лавочке хлеб, велосипедистов, урну, доверху набитую вчерашними газетами, двускатные крыши, солнце, которое раскалывает телевизионная башня, машины, серые, красные, чёрные, голубые, темнеющие подворотни, кошек в них, как башенный кран поднимает груз, а строители размахивают руками, вижу пешеходов, с которыми никогда не заговорю, и которых больше не встречу, и переулки, в которые никогда не сверну.
Чего я не вижу:
Ветвистые тополя на бульваре, мальчишек, играющих в «казаков-разбойников», зашторенные окна, старуху, жующую на лавочке хлеб, велосипедистов, урну, доверху набитую вчерашними газетами, двускатные крыши, солнце, которое раскалывает телевизионная башня, машины, серые, красные, чёрные, голубые, темнеющие подворотни, кошек в них, как башенный кран поднимает груз, а строители размахивают руками, вижу пешеходов, с которыми никогда не заговорю и которых больше не встречу, и переулки, в которые никогда не сверну.
А ещё я не вижу себя, медленно бредущую по улицам, не вижу, как башмаки, сметая с тротуара пыль, топчут окурки и палую листву. На высотном здании светится новостное табло, сообщение бегущей строкой: «Торжества в Чертоглухии по поводу подавления революции столетней давности переросли в массовые беспорядки».
Я думаю:
Революция – это борьба со всеобщим отчуждением, революция – это борьба, революция… Почему мы боимся её? А почему боимся всего на свете?
Устин Полыхаев снял шлем и в темноте откинулся в кресле. Неделю назад он рискнул предложить издательству свою книгу. «Оригинально и талантливо», – вынесли ему приговор, потому что оригинальную и талантливую книгу – он знал – никто не будет читать. Уставившись в потухший монитор, Устин вдруг подумал, что писал обо всём, кроме того единственного, в чём разбирается досконально. Страх. Он прошёл все его ступени, изучил от альфа до омега, он различает его оттенки, как кошка оттенки серого, от липкого ужаса, когда в детстве, оставляя одного, выключали свет, вынуждая мгновенно закрывать глаза, чтобы попавшая в них темнота их не выела, до привычного испуга, когда вызывает начальство. Он чувствует его кожей, как подступавшую тошноту, а потом его отголоски, его следы – страх страха, страх страха страха…
В клубах Устин проводит дни и ночи. С редакторами половины журналов, в которых сотрудничал, он поссорился, отказываясь от новых заказов, объясняя, что ему нужен отдых, что его заела текучка – у меня совершенно нет времени, должны же вы, наконец, это понять! Редактора вешали трубки. Устину было плевать. Он с головой погружался в игру, приходя в клуб, переселялся в иную реальность, дверь, которую толкал, надевая шлем, поворачивая ключ, становилась стеной, а он за ней недосягаемым для неприятностей и забот этого мира – там его ждали свои. Устин чувствует себя демиургом. Он перемещает своё воплощение в пространстве и времени, точно шахматную фигуру, когда Устина изъявляет желание сходить в театр или на выставку, за этим стоит он, в сущности, он и есть её время, которое исчезает для неё в его отсутствие, тогда жизнь Устины останавливается, замирает, хотя Устина этого не замечает, проваливаясь в сон без сновидений. Это кома, клиническая смерть. Как она проводит часы без него? Устин не видит. Но он убеждён в её верности, чего не скажешь о других, с которыми имел дело, и, когда, мучаясь разлукой, снова приходит к ней на свиданье, всегда находит в том месте, где оставил.
Это вселяет в него уверенность. Постоянство, которого так не хватает в его мире.
Я голосую на шоссе.
Вытягиваю руку, как регулировщик жезл.
Я едва не перекрываю движение.
Другой день идёт дождь, машины мчатся мимо, обдавая грязью. Наконец, одна тормозит – маленькая, с двумя дверями, я едва помещаюсь на переднем сиденье, и мне кажется, что машину перекосило на правое колесо, но, тьфу-тьфу, это только кажется, – я поправляю в водительском зеркале намокшие, свалявшиеся волосы, насколько это возможно, забывая сказать, куда мне надо. Кресло неудобное, короткий предохранительный ремень. Зато водитель мне сразу нравится, живые, ясные глаза, в которых я не читаю обычного: «Как это будет с нею?» Пока держит руль, он не молчит. Но и не болтает. Мы разговариваем, а это такая редкость. Странно, что он не спрашивает, куда мне, возможно, пока нам по пути. Дождь хлещет в стекло, работают дворники, и у многих встречных машин включены фары. Он ведёт классно, ас, я хоть и не сдавала на права, но понимаю. Говорим о погоде, музыке, политике, обо всём и ни о чём. Короче, болтаем. Он сдержан, учтив, в меру улыбчив, настоящий мужчина в моём представлении, мне с ним легко и, что важнее, интересно. Я совсем не рада, когда приходится говорить: