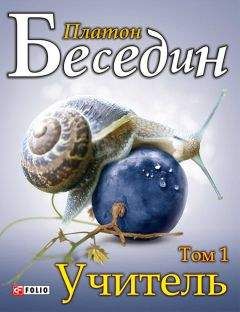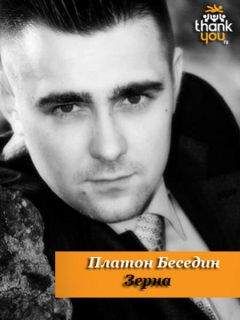Помню ее. Стася переехала из Алушты. Только о ней и болтала: о набережной и домах отдыха, вспоминая, как возле одного из них, «Золотого колоса», три рэперских девки избили ее ногами в живот, чтобы не шлялась, где не ее территория. Свои истории Стася запивала крепким «Орлом», смешанным с димедролом. После пяти-шести бутылок лицо ее становилось темно-зеленым, под цвет этикетки. И Стася оседала на столик. Ее поднимал какой-нибудь парень, брал под руки и зигзагами вел в сосновую посадку.
Стасю считали шлюхой, хотя чтобы так ее называли вслух – не помню. Мнение о себе она, наверное, знала, но не обижалась. Только больше сыпала димедрола, только яростнее накачивалась «Орлом». Один на один мы разговаривали с ней всего раз – о Грине, и Стася обижалась, когда я называл его Гриневским. Этот разговор диссонировал с вечными деревенскими пересудами, кто кого трахнул и кто сколько выпил, так, будто из Чужого вылез не монстр, а улыбающийся розовощекий младенец.
А потом пришел Исмаил. Худощавый, вечно взволнованный, с лицом, точно при рождении испугали. Ему было лет восемнадцать, но голову уже облепили медузы плеши. Руки же, наоборот, курчавились темными завитками, и когда я случайно прикоснулся к ним, чуть ниже локтя, меня ударило электричеством. Собственно, весь он казался наэлектризованным, юрким, ищущим, где бы спрятаться. Наши пацаны звали его Смалец, а татары не принимали. Жил он один, без родителей, в единственной каштановской пятиэтажке, и на балконе его квартиры на третьем этаже всегда висела зеленая тряпка. По пятницам и субботам Смалец приходил на скамейки, куда меня таскал брат, усаживался и молчал.
Заговорил он лишь раз. Когда Леха Новокрещенцев, напившись домашнего крепленого вина, украденного кем-то у деда, начал приставать к Стасе. Так нагло, развязно, что все удивились. Леха не говорил – вещал, и привычная робость его, заикание исчезли.
Но Стася вдруг заартачилась, отвечая дурным, пьяным смехом на все Лехины уговоры. Казалось, он лезет в фонтан за монетками – вот они, совсем близко, – но дотянуться никак не может; то ли усилие слабое, то ли глубина больше, чем думается. Леха уламывал, психовал и наконец не сдержался:
– Ш-ш-ш, – тут на него навалилось привычное заикание, – ш-ш-шлюха!
Из-за растянутого шипения получилось особенно зло, едко. Так, что самому Лехе, похоже, стало противно. Стася вздрогнула, поставила бутылку «Орла» на стол, закрыла глаза.
И тут Смалец прыгнул на Леху, ударил по-бычьи: плешивой головой в нос. Леха вскрикнул, повалился назад. Смалец вопреки деревенским правилам не стал добивать, а застыл, повторяя: «Не сметь ее так называть!» И во всем его облике, подаче мне виделась достоевщина. Беспросветная, вязкая, мрачная – очень человеческая, слишком человеческая. И за такое проявление чувств – полнокровное, дышащее – я зауважал Смальца. Даже Леха, наверное, зауважал.
И кто-то сзади – может, косоглазый Фима или кучерявый Пельмень – бросил: «Ты еще в любви ей, защитничек, объяснись». Так и сказал, усиливая достоевщину: «Объяснись». Наверное, все-таки Фима, потому что Пельмень таких слов не знал.
Смалец взглянул хмуро, но с осознанием, как человек, наконец-то решившийся, произнес:
– Объяснюсь. – Развернулся к Стасе: – Люблю тебя.
И ничего ведь не предвещало. Сидели, пили, курили, бакланили, ломали спички, тушили окурки – пребывали в обыденности. А тут вспышка, явление, сцена. Абсолютно дикая, неестественная. Особенно на фоне серости лиц, универмага, быта.
Стася открыла глаза, посмотрела, точно прося. Смалец повторил свое признание. А Фима – на этот раз точно он – продолжал разжигать:
– Да бакланить мы все мастаки, а на деле-то – ссыкотно!
– Заткнись! – не поворачиваясь, бросил Смалец.
– Ссыкло! – шепелявой змеей засипел Фима. – Ссыкло! Был бы смелый – руку бы отрубил!
Знаю, почему он сказал так. В тот день на уроке английского нам рассказывали о вождях двух кланов, отправившихся в плавание в поисках новых территорий. Когда они наконец увидели берег, то решили добираться к нему на лодках: чья рука первой коснется земли – тому она и достанется. Когда один из вождей увидел, что его лодка отстает, то отрубил себе руку и бросил ее на берег. И стал королем Ольстера.
– Дрочить меньше будешь, – вставил кто-то, и смешок Фимы перешел в общее пьяное ржание.
Смалец опустил голову, отошел, не смотря на Стасю, и зашагал в сторону пятиэтажки, в которой никто не хотел жить; ведь ни огорода, ни печки.
– Зассал Смалец, – удовлетворенно протянул Фима.
– Меньше выебываться будет…
Стася молчала, не трогала бутылку «Орла». Зелень сходила с ее лица. Я наблюдал за Стасей исподлобья, дабы не привлекать внимания. Брат ушел в сосны с Любой Петрушкиной, у которой к девятому классу выросли груди на зависть всем конкуренткам, и школьным, и взрослым.
Пельмень достал карты, стали играть в подкидного. Реанимировали повседневность, и Смальца тут же забыли, но он вернулся. Лицо бледное, сосредоточенное. Фима, обернувшись, крикнул:
– Ссыкло, ты вернулось?
Смалец, не отвечая, подошел к нам, с заметным усилием выдернул руку из кармана широких, на размер больше, вельветовых брюк. Кисть перемотана болотного цвета тряпкой. На ней, как щеки наливаются жаром, проступают красные пятна. Король Ольстера вернулся. И швырнул на стол обрубок. Пошевелил оставшимися пальцами.
Говорил Смалец рассеянно, мутно, непонятно чему улыбаясь. И я вдруг понял, что в холодной, темной квартирке на третьем этаже горемычной пятиэтажки ум Смальца мутировал, изменился. Он принял безумие, как принимают веру в Спасителя, и оно, прорвав полотно обыденности, сунуло в мир свою пожелтевшую морду. Произошло это столь неожиданно и беспричинно, что никто не поверил в реальность случившегося. Будто Джим Моррисон воскрес и спел «Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков…».
Цель неясна, средства туманны. И непонимание, незнание – ведь до этого мир казался сплетением, в общем-то, адекватных причинно-следственных связей – природы события захлестнуло меня. Не знаешь плешивого паренька из пятиэтажки. Не знаешь девчонку, глушащую димедрол с пивом. Не знаешь блядовитую продавщицу из «Огонька». Не знаешь докучливых родственников. Не знаешь себя. Вообще ничего не знаешь. Сколько ни придумывай описания, все равно безопасности не снискать.
И сейчас, когда мы с братом усаживаемся за столик с бутылками «Жигулевского», я не знаю, чего ждать от предстоящего разговора. Не знаю, какое чувство достать из-за пазухи: обиду, разочарование, ненависть, страх?
– Здорово, Бесогон! Поди оклемался?
– В смысле?
– В смысле с хуя ли обкладывал меня хуями последние дни?
Количество хуев с приставками-окончаниями в его фразе создает ощущение репортажа с соревнований азиатских волейболистов. Но, несмотря на это, мне есть, что сказать. Я записал вопросы на лист, вырванный из тетрадки с Алессандро Дель Пьеро. Много вопросов. Но почему-то ограничиваюсь лишь одним:
– Сколько ты с ней?
Оказывается, могу, когда захочу, переходить непосредственно к сути. Нормальный пацан, конкретный, без бэ.
– С кем?
Он мог бы сказать, что угодно. Но не это. Бушевать, отмазываться, смущаться, посылать – но понимать. А он, позевывая, не въезжает, хотя я уже под колесами:
– С ней!
– Блядь, ты о чем?
Ему все равно. Потому что с ним вереница глупых, влюбленных, податливых. Самое время напеть: «Где же ты, студент, девчонку новую нашел…» Да, похоже, я на днище, раз цитирую «Руки вверх». Что дальше – копрофилия, суицид, «Иванушки International»?
Ответные слова в предложения строятся долго. Притираются, ищут пустоты. Хотя мне жаждется доесть этот разговор, как бабушкин борщ, побыстрее. Достать точки, спешно раскидать их над буквами, не оставляя никаких «или».
– Ты был с ней… Подъехал к остановке…
Брат распаковывает пачку синего «Честерфилда». Я обычно рву пленку зубами, а он справляется пальцами, ловко, умело.
– Не еби мозг, а.
– Рада, ее зовут Рада.
Судя по тому, как я произношу это, должна заиграть тревожная музыка. Чем не триллер? Но брат – не актер; брат – простой сельский экзекутор, “it’s only sadomasochism but I like it…”
– А, цыганочка…
Так не татарка? Нет? Я-то думал. Интересно, как дед относился к цыганам? Говорил ли про них: «Четыреста тысяч предателей»?
– Не помню, – нет, временные сроки брат называть не станет; вполне возможно, он их просто не помнит. – А тебе что? Понравилась?
– Мне?! Нет! – И в этом тоже есть своя правда.
– Хули тогда суетишься?
Отличный вопрос. Вообще прямо-таки день отличных – точных, нужных – вопросов. Жаль, что с ответами не задалось. Хотя, наверное, можно сказать: «Мы с ней встречались». Но «встречались» подразумевает определенный процесс: знакомство, конфетно-букетный период, ухаживания, поцелуи, секс. А у нас присутствовало лишь изнывающее томление; мое бессилие сцепилось с ее желанием – две шестеренки, которые не разъединить.