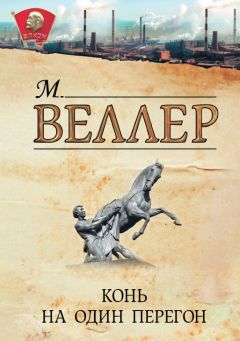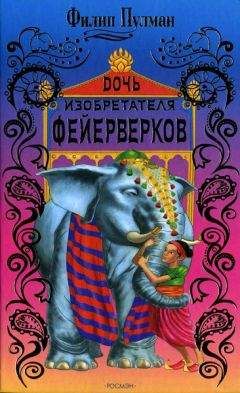150 см. Слуга.
– Ты как смеешь, холоп, смерд, такие вещи поганым своим языком молоть, а?! Ну что «вашскородие» «вашскородие»? Молчи, подлец! тут тебе полицейский околоток, а не кабак!
Вы, ребята, выйдите-ка: это дело государственным пахнет, я с ним, ракальей, один на один говорить буду. Да я таких вещей и повторить не смею, не то что записать. Двери плотнее затворите!
Ну, вставай с колен, хватит. Пропойца, босяк, ты как смеешь лгать, что в доме самого его высокопревосходительства служил? Врешь, сукин кот! я узнавал: ответили, что знать такого не знают!
Ну, так кто тебя надоумил говорить, что его высокопревосходительство… проссти, госссподи, слова мои грешные… что он карлой стал? А?! Что портной в доме живет и каждый день ему платье другое шьет? Что каждый день измеряется – все меньше и меньше? Да счас я тебе дам промеж глаз – ты у меня разом меньше мыши станешь!
Ты подумай дубовой своей башкой: а как он с людьми-то говорит? Ах, через двери. И еще из постели лежа, далее порога не пускает. Ну ты артист.
И ноги, значит, со стула до полу не достают? И обедать изволит в пустой столовой за закрытыми дверьми? И с женой… не твоего ума дело, негодяй!
Ты хоть понимаешь, что ты с ума спятил? А в присутствие… карету к подъезду подают, и никто не видит, как он садится? Складно! А на службе из нее выходит – тоже всем приказано подалее быть и не смотреть? А посетители что, слепые? Ах, издали, стол специальный ему сделали, маленький, чтоб не понять было.
И потому, говоришь, никто его не видит. А зачем тебе, козявке, его видеть? с тебя знать достаточно, что он есть, обязанности свои, самим государем определенные, исполняет, и бдит о тебе денно и нощно. Он не фигляр, чтоб твари всякой на глаза выставляться.
Ты над кем насмешки допускаешь, злодей! Значит, он уже и до дверных ручек еле достает, и на цыпочки поднимается, чтобы на стол заглянуть, и под стул прячется, если ненароком зайдет кто… и ест мало, как ребенок, – а на что ему много есть?
Ты что гогочешь! Ах-ха-ха-ха-ха! тьфу на тебя… ха-ха-ха! Значит, бегает по резиденции его высокопревосходительство в аршин ростом, носом на столы натыкается, на детской мебели сидит…
Пятнадцать лет у него служил? И слуг он всех рассчитал? Ну, я тебя сейчас иначе рассчитаю, вложу розгами ума через заднее-то место. И – по этапу, по этапу тебя вышлю, сочинителя…
70 см. Спаситель.
– Не любо – не слушай, а врать не мешай. Да и не вру я, братцы, вот как на духу.
Я с детства вырезывать из дерева любил, пошел за папашей по столярной части, и мастерскую он мне оставил, царство небесное покойнику… ну, да не о том речь. А только начал для забавы фигурки разные резать, на Сенном рынке сбывала их лотошница, – а кончил тем, что фигуры делал в модные магазины на Невский. И были мои фигуры лучше парижских или немецких. Лицо из цветного воска, парик натуральный, – как живые. Дело собственное имел и доход, двух мастеров держал, пять учеников.
И вот заходят двое – господа. Вежливые, ласковые. А у меня вывеска была, золотом. И говорят: а можешь такую-то куклу изладить, чтоб за шаг от живой не отличить? А я – гоголем: хоть турецкого султана, хоть мать его. Говорят: заказ очень важный, надо чтоб никто не знал ничего. Ни ученики, ни жена даже. Плата – тысяча серебром. Засомневался я, да ведь это три с половиной тыщи ассигнациями.
Обговорили размеры все, изделал я фигуру – на шарнирах, любую позу принимает. Огромная у меня тогда способность была… Потом они мне рисунков нанесли – какое лицо должно быть. С лицом я долго мучился, из глины раз десять переделывал, все их не устраивало. Четыре месяца всего работал без продыху. Уж так придирались – к каждому волосику. Бородавку на щеке – и то сколько раз переделывал.
Но – угодил. А зачем – не говорят. Ладно – ваши деньги, мой молчок. Похвалили они, сказали – завтра приедут забирать, и деньги завтра… А только ночью стук в дверь: по мою душу… Ты такой-то? – Я. – Пошли. – В карету, с боков зажали – и ночью через весь город. А карета без окон. Вот так: отлеталась пташечка…
Привозят: крепость. Выходи. Я было в ноги – а меня по рылу. Наковали железы – да в камеру. В каком же таком, думаю, деле я оказался?
Трижды в день еду мне в окошечко ставят, да по утрам парашу забирают. Тишина, и камень кругом. За окном птички поют, а не видно: железным листом окно забрано.
Ну, да это все известное дело, что говорить. А когда царь преставился и новый царь стал (про то я после узнал), перевезли меня в тюрьму, да и по этапу в каторгу: бессрочный особого разряда, родства не помнящий. А я и рад не помнить: молчу, чтоб хуже не было; сообразил, что молчать уж лучше…
А в каторге уже, в Краснокаменском остроге, был у нас один из благородных. При лазарете, доктор бывший. Я занемог раз, попал в лазарет, а потом кормился долго там, помогал ему. Он без креста был, но человек в остальном неплохой, понимающий. И оказалось, братцы, что страдаем мы с ним по одному делу. Во, а?
Он доктором был при одном высоком генерале. Генерал в большой силе был, лично к царю приближен. И напала на него болезнь: стал расти обратно – уменьшаться. Доктор его и так, и сяк: уменьшается!
Росту он был огромного, пока до нормального уменьшался – все ничего. Может, кто и подметил – да молчал. Чтоб большой генерал тебя из жизни выкинул – ему много роста не надо. Со страху да выгоды и карлика великаном именуют.
Но дело совсем плохо стало: уменьшается генерал да уменьшается. Уж под столом проходит: аршин росточку. Это уже скандал невиданный и оскорбление генеральского чина. Чего делать?
Генерал службу бросать не хочет: жалко ему. Его сам царь знает и ценит. И хочет новые высокие должности дать. А царю перечить нельзя. Как про такое доложишь? огорчится он за любимца, и навечно ты за такую новость в немилость впадешь.
А главное – генерал свою беду от всех скрывает. Работу всю за него подчиненные делают. Он им за то – награды. Повысится – и их за собой повысит. Им тож невыгодно его терять: со старым-то хозяином спелись, а нового еще как найдешь.
А прознают враги генерала про такое его уменьшение – сразу его без масла сожрут.
И умы нельзя смущать такими чудесами и безобразиями: уважения не станет к генералам и к власти, если они могут в аршин ростом быть.
Но иногда надо же людям показаться: хоть в карете по городу, хоть с балкона. Не то слухи пойдут – и рога тебе придумают, и что с ложки кормят, и из ума выжил, и вообще помер, мол, да это скрывают.
Понял, куда я гну? Вот для чего куклу я делал. Одели ее в генеральское – и показывали иногда, чтоб сомнений не возникало. Не ответит – что ж, думает. Не встанет – устал.
Потом, говорят, механизм к ней сладили, что и садится и встает сама, руку поднять может. Движения неловкие? а ревматизм, суставы болят, в молодости в военных походах застудил.
И все отлично. Он себе управляет по-прежнему, награды получает, ослушников наказывает, в чинах растет. А что ростом с кошку – то никому не ведомо, фигура за столом – а он сидит под столом и приказы пишет. Пустит посетителя – развернет фигуру в кресле спиной к нему, бумагу ей в руки вложит – мол, занят, читает; а сам говорит из-под стола. Посетитель стоит у дверей, трясется: горд генерал, сердит, раз даже не повернется.
Утром фигуру – на службу в карете, вечером – домой. Сопровождает ее огромный адъютант, а сам генерал под его шинелью-то и прячется, за пазухой тот его проносит на место. Адъютанту зачем выдавать? ему хорошо, а чуть брякни – разжалуют приказом в солдаты, да на войну. Тайна.
Вот для тайны меня-то в бессрочную и укатали. И доктора, что лечить его пробовал – тоже, с которым мы встретились. А каторжному кто поверит. Ты вот веришь? Ну и дурак. Дай ножик, я тебе сейчас такую куклу вырежу, что ты не видал никогда…
15 см. Любовница.
– А говорят, ты с ним была когда-то, – правда, аль брешут? А правда, что ты в хоре тогда пела, и плясала? и квартира своя была на Подъяческой? А потом тебя отовсюду… и к нам сюда… да ты не обижайсь. А он тогда нормальный был?
А девки говорили, он с огурец ростом, вершка четыре: такого наплели – и смехота, и срамота… мы все утро смеялись.
А он тебе денег много давал? Конечно: граф… Эх, мне бы такого, я б сейчас в собственной карете ездила, а не здесь, по десяти гостей за вечер принимала.
Правда – любила?.. Первый… вот оно как. Не плачь – ему-то небось счас хуже, чем нам.
Говорили – на службу его телохранитель в кармане носит. А в кабинете посадит осторожненько на стол, а там столик, стульчик – кукольные. Бумажка нарезана с почтовую марку, перышки воробьиные точены – и он приказы пишет. А чиновники их в увеличительное стекло читают и исполняют. А буковки-то крохотные, не разобрать, да и головка у него как у голубка, разве такой головкой сообразишь что? Вот и пишет каракульки, а чиновники делают что хотят, а ему врут все, что исполняют. А он как проверит? ему и самому все равно, абы жить как живет в своей должности.