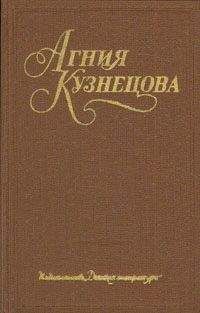В этом месте своего рассказа Рина с удовольствием засмеялась, будто сама залюбовалась красотой сюжета.
– С трудом уломала идиота, – проговорила она и отпила из бокала глоток белого вина, которое мы заказали к лососю. – Но как вам нравится сама идея? Я-то в этом вопросе ни черта не понимаю, но вдруг в ней есть зерно, так сказать? Вдруг они гении, спасители нации? А? Вот то-то и оно…
* * *
…Я шла к площади Кошек, где, как обычно, оставила машину на крошечной полулегальной стоянке, которую держат два лихих арабских угонщика. На этой стоянке работает тот же фокус иерусалимского расширения пространства: в закутке между рестораном и каменной лестницей, где могут поместиться не больше пяти машин, парни умудряются ставить пятнадцать. Происходит это тем же способом, каким выстраивались цветные плоскости на знаменитом кубике Рубика – минимальными челночными подвижками, – при условии, что ты оставляешь угонщикам ключи от машины. Не многие на это решаются, но я рисковая и, возвращаясь за своей колымагой, всегда обнаруживаю ее совсем на другом месте, но в целости и сохранности.
Наступало время моих любимых лимонно-летних сумерек. Воздух, полированный желтым маслом фонарей; юный месяц, плывущий над площадью Кошек, как потерянный кошачий коготок; полукруглые окна старых домов, доверху полные горячительным: вот желтоватый виски, вот янтарный коньяк, вот красное вино, зеленоватый абсент – и все теплится и двоится в нежно тающей дымке, сообщая улочке Йоэль Соломон приятельский вид навеселе.
Уже выстроились в каре на площади самодельные раскладные столы, с которых по вечерам здесь торгует своими прикольными поделками хипповатая молодежь. Уже стояли в ряд на земле наргилы из синего стекла, с мундштуками, сверкающими дешевым золотом. Уже некто вдохновенно-тощий, в пижамных штанах и с целым стогом витых сосулек на голове, настраивал гитару.
Мне оставалось миновать этот стихийный базарчик и свернуть к стоянке.
Вдруг я остановилась.
На бетонную тумбу слетелась стайка нездешних деревянных птиц. Это были чурочки, раскрашенные и поставленные на проволочные лапки, обмотанные грубой ниткой. Рука художника – настоящего художника – раскрасила их в жаркие и нежные тропические цвета, так что каждая птица была наособицу, а все вместе они производили оглушительное впечатление щебета и свиста и прямо-таки заливались и щелкали.
– Чьи?! – крикнула я по-птичьи, оглядываясь, и лохматое чучело в пижамных штанах, отложив гитару, суетливо подскочило ко мне. Господи, подумала я, разглядывая его, много чего я видала в этом городе…
У парня было лицо, пронзенное кольцами во всех абсолютно своих частях. Оно было перегружено железом, это вооруженное против всего мира лицо. Но глаза – карие и пушистые от ресниц глядели с какой-то восторженной и смешливой доброжелательностью.
– Откуда они? – спросила я, поглаживая пальцем по лаковой спинке то одну, то другую птичку. – Твои?
Он торопливо пустился объяснять, что птичек выстругал ножиком и раскрасил один парень, из этих, из африканских беженцев… И он не может сам продавать… болеет… ломает его, ну, сами понимаете…
Я не могла отойти от стайки диковинных птах. Я просто слышала, как они поют, каждая на свой лад… И стоили они какие-то копейки – узнав цену, я оторопела и впервые в жизни прикусила свой торговый язычок. Видно, этот, в пижамных штанах, хотел поскорее избавиться от всего птичника и присоединиться к приятелям, забабацать там что-нибудь на своей гитаре.
– Я возьму… – сказала я, доставая кошелек. – Две возьму… нет, три… Еще лазоревую с морковным хвостиком.
Стала выбирать, почему-то волнуясь. Да ясно, почему: я всегда волнуюсь, когда вижу настоящее. Долго колебалась – желтую, со спинкой цвета морской волны? переливистую зелено-голубую, с алым гребешком и смешным серым чубчиком, и… боже, какая за теми, первыми, стояла цесарка: черная, нахохленная, в белый горошек.
Желтый фонарь освещал эту птичью сходку, словно туманное солнце непроходимых джунглей.
– Постой, – сказала я растерянно. – Да что, в конце концов! Я всех беру! Сколько их тут – пять? Сгребай всех сюда, ко мне в сумку.
Он ужасно обрадовался. Это ж надо – рынок еще не встал, а дело сделано.
– Отнесу ему деньги, вот счастье-то! – повторял он.
– А ты что, – спросила я, поколебавшись, не уверенная, стоит ли спрашивать, – тоже из той… компании?
Он засмеялся, заколыхал огромным стогом косичек, как будто я сказала что-то особенно смешное.
– Когда-то, уже давно… – ответил он просто и опустил деньги в карман штанов, что болтались у него на бедрах, как рубище. – А сейчас я там волонтером. Многим ведь помощь нужна, знаете… Психологическая, ну и вообще…
– Понятно… – кивнула я, почему-то не отходя от этого парня. – Ну и грива у тебя! Ты прямо как библейский Авшалом, сын Давидов… Не тяжело носить?
Он махнул рукой и сказал:
– Тяжело, да уж скоро состригу. Я их раз в полгода стригу – на парики.
– На парики?
– Ну да… Детям – на парики. Есть же дети, что химию проходят и лысеют. Неприятно же, особенно девочкам… Так что я отращиваю, потом стригу. Отполируюсь до лысины – во будет картина!
Он помахал мне, отбежал к своей гитаре и, подняв ее с земли, крикнул:
– А вы – классная, совсем не торговались! Знаете, бывают люди такие – торгуются, торгуются… У них копейка больше, чем луна.
– Бывают, – согласилась я. – Встречаются такие сволочи.
И пока ехала домой, предвкушала, как сейчас тайком расставлю своих клювастых птах по всему дому, а Борис, спустившись из мастерской, станет находить их в разных местах и тихо ахать; знала, что ему понравится моя добыча, и вполне возможно, птички заживут еще и другой своей жизнью, в какой-нибудь его картине.
Вспомнила вдруг уголовную компанию по извлечению воды из небесных морей, засмеялась и подумала: что ж, если в данной идее действительно есть зерно, то Иерусалим, конечно, – самое подходящее место для добывания воды из ничего. Ведь здесь много чего из ничего получилось. Например, три великие религии…
Так, может, наконец разверзнутся хляби, отворится в Иерусалиме небесном великое окно, изливая на непокорную твердь Иерусалима земного потоки светящейся пустоты, напоенной благотворной влагой?..
…«Знай, – говорил рабби Нахман из Брацлава, – у каждого пастуха есть особая песнь, связанная с местом, в котором он пасет скот, и с травами, которые там растут. Ведь у каждой травинки своя особая мелодия, а из песни трав рождается песнь пастуха. Потому-то царь наш Давид, который был пастухом, и складывал песни…»
Иерусалим, октябрь 2011
Синий простор. 2011
Долгий летний день в синеве и лазури
Греческие вывески очень трогательны: они напоминают старательные детские письмена. Моя дочь в детстве так писала букву N – с перевернутой перекладиной. Видишь слово TABEPNA – и душа улыбается.
Вообще надписи, вывески, указатели, написанные на смеси родной кириллицы с таинственными зигзагами елочной конфигурации, рождают странное ощущение сна. Так во сне бывает: берешь в руки исписанный лист, пытаешься вглядеться в криво бегущую строку, перед глазами прыгают отдельные буквы, слоги… а смысл фразы ускользает.
Едешь в автобусе, и вдруг на повороте обрадованный глаз выхватывает вывеску: КАФЕ. И снова – в названиях ресторанов, магазинов, отелей – две-три русские буквы перемежаются фигурками шрифта пляшущих человечков из знаменитого рассказа о Шерлоке Холмсе.
А какие имена у всей здешней топографии: у водопадов, побережий, пляжей, монастырей, портов и таверн… у людей, наконец! Не говоря уж о древних богах, с которыми все здесь запанибрата, ибо те обитали не на небе, а по соседству и возникали там и сям не то чтобы по первому зову царей и героев, но частенько – достаточно часто, чтобы достойному древнегреческому писателю помочь сварганить приличный литературный сюжет.
Нашего водителя зовут Васи́лис, и глаза у него синие, как у василиска. Он все время улыбается плотно сжатыми губами с таким видом, будто знает о нас нечто пикантное. Вообще к нам – ко мне и моей подруге – он относится, кажется, с легкой иронией.
Его прислали, чтобы он не только рулил, но и разговаривал. Заказывая в отеле экскурсию, моя деятельная подруга сообщила портье, что с ней писательница, известная русская писательница, которая приехала на Крит за впечатлениями, и поэтому…
– Ладно, – сказали на том конце провода. – Мы пришлем водителя, который что-нибудь скажет.
И Василис говорит – на твердом и раздельном английском, в особо патетические, вернее, патриотические моменты («Смотрите, сколько вокруг олив! миллионы!!! наше масло – лучшее в мире!») переходя на мягко-шелестящий, проворный греческий, в котором у каждого слова на конце либо восхитительный лисий хвост, либо залихватское притоптывание. Спустя минут двадцать такого разговора мне начинает казаться, что греческий я понимаю лучше, чем английский.