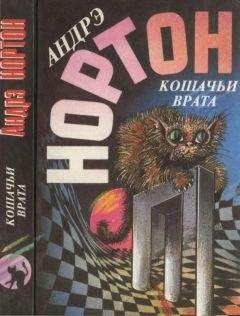– Зачем же это нам, Бимуля? – спрашивала я собаку, когда мы меланхолично брели по набережной Фонтанки. – Ответь. Ты, наверно, знаешь. От мамы, как выяснилось, совета на этот счет не дождешься.
Собаченция едва заметно помахивала хвостом, сигнализируя, что вопрос слышала, но отвечать на него не собирается.
– Кончай сучиться, – сердилась я. – Сколько можно дуться? И вообще, на что ты обиделась, скажи на милость? Подумаешь, оставили ее на два месяца! Я же вернулась, нет?
Бима оборачивалась, смотрела на меня и, смилостивившись, подходила к ноге.
– Не сердись, – было написано на ее сочувственной морде, – ну, обижаюсь. Так это ведь всё от любви. Я ведь даже обижаюсь любя. Я все делаю любя. Чего никак нельзя сказать о твоем Лоське. Говорила я тебе с самого начала, что кобелей в дом не водят? Говорила. Ты меня слушала? Нет, не слушала. Хотя, видит бог, личного опыта с кобелями у меня всегда было намного больше, чем у тебя. Кобели хороши во дворе, на улице, в парке, в лесочке… – короче, там, где они нужны для непосредственного делового контакта. Но дома? Какой прок от кобеля дома, в условиях ограниченности мисок, сосисок и прочих насущных благ? В общем, если ты просишь совета от опытной сучки и твоей ближайшей подруги, то вот он: незачем. На фиг он тебе не нужен, этот Лоська. Точка, конец сообщения.
Так говорила Бима, опытная сучка и дорогая подруга. А я? Как поступала я? Уж никак не в соответствии с ее мудрой рекомендацией. Наверно, в моем поведении сказывалась инерция прежних времен. Ведь я так долго планировала свою счастливую жизнь с этим Лоськой! Я потратила на него годы… Хотя, нет, правильней будет сказать, что я потратила годы не на него, а именно на планирование своего будущего, неотъемлемой частью которого был он. Я так долго шла к этому моменту, к этому лету, к этой поездке на Кавказ, к этому разговору у подоконника в торце коридора, к этим словам: «Пожалуйста, выходи за меня замуж»… По сути, они были венцом, эти пять слов – венцом долгого и увлекательного процесса, составлявшего главное содержание моей жизни на протяжении трех лет. И что же теперь – просто взять, да и выкинуть этот венец собаке под хвост? Как-то рука не поднимается – даже когда эта собака – Бима, опытная сучка и дорогая подруга.
И вместе с тем, я не могла себя заставить предпринять хотя бы минимальные шаги в прежнем направлении. Еще весной я не оставляла без внимания ни единой детали, не пускала на самотек ни одной щепки, ни одного бумажного кораблика. Всё было под моим личным контролем, я ни на минуту не позволяла себе расслабиться и передоверить дело своего будущего каким-то другим рукам – даже самым надежным и дружественным. Отчего же сейчас, осенью, мною владело такое странное оцепенение, почти равнодушие?
Нет-нет, я нисколько не боялась крашеной гиены, ее самострелов и минных полей. Будь это еще в мае, я без колебаний села бы в электричку и отправилась в чертово Мартышкино за своим бесценным Лоськой. Однако в сентябре что-то мешало мне это сделать. Наверно, вкус абрикосов во рту…
– Немедленно оставь эти глупости! – вскидывалась моя умная половина. – Ты больше никогда не увидишь его, этого чеха с именем римских узурпаторов и католических святых. Вкус тебе мешает, дуреха? Что ж, пойди в магазин и купи лимон – может, полегчает. Да даже и без лимона – долго ли держится во рту даже самый устойчивый вкус?
Как всегда, с умницей трудно было не согласиться. И все же, все же…
Лоська вернулся в город во второй половине сентября. Он выглядел как-то иначе – довольным и уверенным в себе. Не знаю, что было тому причиной: то ли работа в ударной бригаде, то ли самодеятельное зодчество в Мартышкино, то ли сделанное мне предложение, но факт: парень просто излучал этакое солидное мужество. Мы встретились в институте, возле моего деканата, где я только что получила направление на преддипломную практику. Выбор, кстати, был небогат: между «почтовым ящиком» № 10876 и «почтовым ящиком» № 758. В ответ на мой робкий вопрос о содержании ящиков, секретарша Зоя пожала плечами:
– Тот, который подлиннее, вроде как, про подводные лодки. А тот, что покороче, и вовсе неизвестно… Мой вам совет, девочки: берите подлиннее.
– Само собой, – ухмыльнулась подруга Катька. – Записывайте!
Меня же почему-то потянуло к неизвестному коротышке. Возможно, потому, что подводные лодки прочно ассоциировались в моем сознании с Лоськиным военно-морским папашей.
– Кончай дурить, Саня, – сказала Катька. – Туда никто не идет. Будешь в гордом одиночестве.
Но я уже закусила удила. Глупо, конечно, но ничего не поделаешь: в то время мною владел чрезвычайно странный настрой – смесь созерцательного ступора с ослиным упрямством. Держа в руках направление и проклиная собственную тупость, я вышла в коридор и нос к носу столкнулась с Лоськой.
– Привет, – сказал он. – А я тебя жду.
– Ну вот, дождался. Что теперь? – довольно неприветливо ответила я.
Лоська пожал плечами:
– Не знаю. Пойдем куда-нибудь. В мороженицу.
– В рюмочную, – поправила я. – Отведи меня в рюмочную. В почтовый ящик № 362. Или сколько там – четыре двенадцать?
– Проснулась, – улыбнулся он. – Пять тридцать не хочешь?
– Плевать. Хоть тыща тридцать. Ты ведь теперь богатый, можешь сводить девушку. Не на взморье, так хоть в рюмочную.
Мы вышли на улицу.
– Зря ты это, про взморье, – сказал Лоська. – Нам теперь деньги понадобятся. На свадьбу, на первое время.
– Угм… – ответила я.
Мне совершенно не хотелось говорить. Я шла рядом со своим не то женихом, не то чужаком и размышляла о причинах постигшей меня немоты. Наверно, это такой новый этап в развитии отношений, вот что. Сначала молчишь от переизбытка чувств. Потом чувств становится меньше, и ты принимаешься безудержно болтать и строить планы, чтобы хоть чем-то заполнить образовавшиеся пустоты. Ну, а потом наболтанные слова и планы сталкиваются с реальностью, как оперуполномоченный Знаменский с грузовиком, и тут обнаруживается, что нет никакого «пока» – нет, не было, и не будет. Обнаруживается, что лучше было бы вовсе помалкивать – тогда, по крайней мере, не пришлось бы сейчас брести в рюмочную с поганым чувством на душе и с направлением в ящик за пазухой. Сыграла в ящик, нечего сказать…
– Где-то тут была рюмочная… – сказал Лоська. – А чего тебя именно в такое заведение потянуло? Можно взять бутылька, пойти к тебе. У тебя ведь сейчас никого? В смысле, мама на работе…
Мама-то на работе, да перед Бимой стыдно.
– Нет уж, – сказала я вслух. – Ты за кого меня держишь? Я девушка честная, до свадьбы ни-ни.
Лоська неопределенно хмыкнул.
– Ну, как хочешь. В рюмочную, так в рюмочную. Какая-то ты странная, Саня, в последнее время.
В самом деле, на черта мне эта рюмочная? Я ведь в жизни не бывала в рюмочной, не знаю, каково там – почему же именно туда? Наверно, все дело в слове. Слово такое поганое, а то, что под ним, – наверняка, еще поганей: грязные стопки, засохшие бутерброды, алкаши-матерщинники, последняя шваль, у которой на кабак не хватает, как у этого, как его…
– Как его звали, Лоська?
– Кого?
– Ну, чиновника этого, который все пропил?
– Какого чиновника? – удивился он.
– Неважно… неважно, какого.
На сердце щемило, непонятно отчего. Вот зачем она, рюмочная: там ведь с гарантией еще хуже, еще ниже, еще гаже, чем у тебя на душе. А значит, есть на что встать, от чего оттолкнуться. Есть дно. Уж если искать дно, то непременно там, в рюмочной. Как тот пьяница-чиновник. «Пресмыкаюсь втуне», – вот как он говорил. Втуне, в тунце то есть. В нынешней рюмочной, небось, пресмыкаются в кильках…
– Пришли, – сказал Лоська.
Мы спустились по стоптанным в округлые лунки ступенькам. Рюмочная оказалась небольшим полуподвальным помещением с десятком высоких столиков и буфетной стойкой. Лоська отвел меня к свободному столику.
– Жди здесь, я возьму. Тебе сколько?
– А по сколько здесь подают?
Он пожал плечами:
– Я без понятия. Ладно, жди.
Оставшись одна, я огляделась. В противоположность моим ожиданиям, здесь было довольно опрятно: чисто метеный пол, красно-белая клеенка, опрятная буфетчица, да и посетители за столиками не такие уж ханыги. Я повернулась к соседнему столику и обмерла. На меня, отложив газету и по-адриано-челентановски склонив лобастую голову, смотрел доцент Анатолий Анатольевич Тимченко собственной персоной.
– Романова, если не ошибаюсь? – проговорил он. – Не рановато ли вам для рюмочной?
Я посмотрела на часы.
– Первый час, Анатолий Анатольевич.
– Гм, и в самом деле, – согласился он. – Но я-то имел в виду, скорее, время жизни, нежели время дня. Впрочем, это ваше личное дело. Что я вам поставил – тройку?
– Я пересдам, – пообещала я. – Если позволите.
– Позволим, позволим, – кивнул Тимченко. – Нельзя допустить, чтобы такая способная девушка запила горькую из-за какой-то тройки…