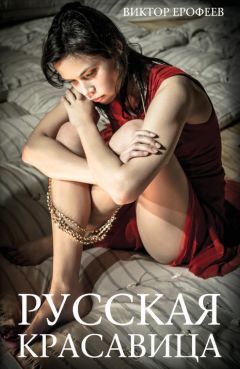Не знаю, сколько я шла, но пришла, из темноты на них вышла, видок такой, что они сочли меня уже нездешней, вскочили на ноги, глаза вытаращили, а я говорю, падая у костра на колени: – Ребята, отбой. – Они ко мне: что? как? – Объясняю: – ОН там, это ясно как день, мучил-мучил, забавлялся, как с куклой, а потом взял и отвернулся… будто у него другие, послаще мучения есть. – Егор, тряся бородой, говорит: – На, выпей. Отойди немного. Господи, это что же за страсти такие! – А я рукой отвела стакан водки: – Не надо, Егор. Я, говорю, сейчас отдышусь малость и опять побегу, теперь-то ведь точно, что ОН там!!!
Выходит, голос был правильный… Голос! На хую волос! – хамят потом, со своей стороны, мне братья Ивановичи. Тьфу! У меня даже в горле запершило, как представила. Весельчаки. Материалисты близорукие. А в приметы небось верите? В черную кошку? разбитое зеркало? или если зубы с кровью во сне увидите? А? Что молчите? Молчат. Их там не было. А Юрочка говорит: – Неужели второй раз побежишь? – А Егор: – Ты на все поле орала! – А я сижу перед ними, как на картине «завтрак на траве», на корточках, и озноб меня бьет, и Егор мне на плечи пиджак свой вешает, как деревенский ухажер, и водки предлагает, но я отказываюсь, и курить мне не хочется, а тянет – рвусь я, не поверите, назад, в поле, то есть на полную свою пропажу, как хотите, так и объясняйте, и даже не ради чего-то там возвышенного, это как бы само собой, а манит, манит меня погибель, я как бы в другой разряд перешла и не жилец на этом свете. Не потому, однако, скажу, что смерти не боялась, нет, я боялась, но я расслоилась, я и не я, одну озноб бьет, другая крылышками машет. И, конечно, так жить нельзя, я же сама лучше всех понимаю, пишу и понимаю, что нельзя, и писать об этом нельзя, ЗАПРЕЩЕНО, только этот запрет уже не Ивановичи на меня наложат, это точно! Здесь запрет иной, более тонкой организации, мне не писать, а молиться, молиться полагается, а я пишу, машу крылышками, и манит, манит меня эта писанина, расписалась, дуреха, и сама как будто снова по полю бегу, такой же озноб и жар, и дитя роковое в утробе воет, из утробы взывает не писать, угрожает выкидышем, а не сказать – тоже нельзя, да мне и так все равно пропадать, такая уж моя планида, Ксюшечка. Так что пишу. Пишу, как бегала, и бегала, как пишу…
И вот я вам что скажу. После того как я отдышалась, пришла в себя, хотя в голове все равно шум стоял, он не прошел, он так и стоял, встаю я на ноги, скидываю Егоров пиджак и вновь вступаю в темень. И напоследок им говорю: – Не получится сейчас – третий раз побегу. Не отступлюсь. А они глядят мне вслед, как на Жанну д’Арк, и плачут. Но неужели этот морок до второго пришествия будет клубиться? И если из меня вышла говеннейшая Жанна д’Арк, может, из вас лучше выйдет. И еще я подумала: коли от меня за версту грехом и бергамотом пахнет – пока не забеременела, тут запах отшибло, и тоже знамение! – раз так от меня пахнет, то куда ОН от меня денется? Никуда! Прольется, не может не пролиться его ядовитое семя, его гнойная малофья! С теми мыслями побежала.
И опять, как пробежала метров сорок, пошла вертеться-кружиться подо мною земля, и луч сфокусировался и напрягся повидлом и гноем, запрокинулась подо мной земля, и пошла летать я на качелях, и тот столп, что из облаков торчал, облапил меня и давай душу мучить и тело ломать, все горит во мне, ухают внутренности, обрываются, и кричу я не своим голосом, и зову не свою мамочку: мама! мамочка!! Ух! И вцепилась на этот раз в меня сила нешуточно, даже если не выебет, все равно замучит, и чувствую – на границе своего разумения – что становлюсь ему, извергу, все ненагляднее и краше, груди мои он сжал мертвой хваткой, норовит с корнем вырвать, чтобы кровь из разверзлых дыр облизать и высосать, а потом ноги-руки оторвать и обрубок на конец натянуть, как марионетку, ну, прямо чувствую: вот сейчас! Долго он присматривался, игрался, и не знала я уже, бегу ли я, лечу ли вверх ногами в небо и тучи, или по земле на карачках ползу, слезы падают, реву и головой мотаю, груди вырваны, бок оторван, или мертвая лежу, или что еще, то есть всякий ориентир потеряла, как будто вестибулярный мой аппарат упал, как со стены часы – и вдребезги, такое вот состояние, приближенное к полному помешательству, и недаром Ивановичи позже в глаза мне заглядывали, первобытный хаос в них находили и участливо спрашивали: уж не поехала ли я после поля? не надобно ль подлечиться? Не надобно. И не поехала, а только поскользнулась, но тогда на поле мне не до Ивановичей было, они бы оба у меня на ладошке уместились, и я уже со всеми попрощалась, и с тобой, Ксюш, особенно, но опять – зараза! – сорвалось! Ну, прямо, ты понимаешь, вот-вот было – и сорвалось!!! Такое впечатление, что опять отвлекся. Ну, что ты скажешь! Ну, знаешь, как у фригидных, уже накатит-накатит волна, и вдруг мимо, и как ты там ее ни лижи, ни раскручивай – мимо! мимо! мимо!!! Понимаешь, Ксюш? Помнишь, как мы с Наташкой намучились? Тяжелый случай… Так и тут. Только в миллион раз страшнее и, если хочешь, обиднее. Ведь я же шла на это. Ведь это не каждый вытерпит.
Ты вот, Ксюш, не вытерпишь, я тебя знаю, ты всякой боли боишься, ты даже у Рене и то зубы боишься лечить, а он все-таки муж, больно зря не сделает, и при этом француз, деликатный мужчина, а я терпела! Я хотела! Я вся, как павлиниха, хвост распустила: на! бери меня! убивай!!! Только кончи ты, гад, наконец, своей вонью и смрадом, кончи!!! Не взял. Не убил. Не кончил.
И опять я вернулась к костру, к сторожам моим, к Егору с Юрочкой.
Сидят зеленые, как тараканы, и их подергивает, потряхивает так, что лица, щеки, носы в разные стороны разъезжаются. Вижу: что-то они тоже почуяли недоброе. Я присела к ним, ничего не сказала. А что скажешь? И так без слов ясно. И взмолился тут Юрочка: не бегай, говорит, Ирина, в третий раз. Бог весть, что из этого выйдет, а то вдруг природа раком станет, и всем нам вместе лучше, еще хуже выйдет!..
А у самого зубы пляшут: – Не бегай, заклинаю тебя, в третий раз, Ирочка! – А я говорю: – Не бзди. Хуже не будет. – А Егор, он тоже спешит с Юрочкой согласиться: – Как не будет? А если будет? – И поясняет: – Ведь так еще ничего, терпимо, тошниловка, конечно, но блевать – не погибать, перебьемся. Поедем-ка в теплой машине в Москву!
Короче, оробели конвоиры, созерцая издали эти мои бега, и даже пиджаком не укрывают, не проявляют, по причине страха, ни заботы ко мне, ни уважения. Я тогда натянула мой шотландский свитер, сорвала травинку, сижу, покусываю стебелек, отдыхаю и в их страхи не верю, хуже не будет, и манит меня к себе это чертово поле, по костям павших сородичей бежать, по костям басурманским и конским, в небеса вверх ногами лететь, и во вкус смертельный вошла, и нет мне возврата к прежней жизни. А на поле темень и тишь, и лежит оно себе вполне миролюбиво, и луна, изредка появляясь, освещает молочный туманчик, и это все очень обманчиво, и хочется дальше бежать.
Ну, я встала, отбросила свитерок, пошла, говорю, ребятки. Они сидят, тесно сбившись друг к дружке, недовольные моим намерением, но перечить все-таки не решаются, а костер без их внимания совсем загасает. Ну, я встала, вышла в поле, сердце бьется от новых предчувствий, глубоко вдохнула в себя сладкий клеверный воздух, волосы за уши подобрала – и припустилась, поскакала по кочкам.
Бегу. Бегу, бегу, бегу, бегу.
И в третий раз сгущается вокруг меня нечисть, и снова начинает со мною играть в полеты и потери ориентира, да только я уже почти привыкла к этим шуткам, ногами знай себе перебираю, несусь во весь дух сквозь повидло. И вдруг в тишине этого поля слышу: какие-то голоса поют. Сначала они нестройно затянули и неуверенно, а потом их все больше и больше, ну, целый хор, и поют, как отпевают, поют, как на похоронах. Слов не различаю, хотя они громче стали, и вот уже как будто все поле запело, и лес там черный запел, и все травинки из-под ног, и тучи, и даже река. То есть отовсюду… И поют они так заунывно, так прощально и погребально, что бежать при таком пении нет никакой физической возможности, особенно голой, а хочется остановиться, прикрыться руками, а вокруг все поет. Я замедлила свое движение и стараюсь понять, кого это они отпевают, не меня ли, и кажется мне, что меня, но кажется мне, что не только меня, а все вокруг отпевают, и небо, и тучи, и даже реку, то есть самих себя, и меня, и все сразу, и я остановилась и слушаю, как эти силы, живые и непонятные, поют заунывную песню, со всех сторон обступили меня и поют, и не то что осуждающе, что, мол, зряшная твоя затея и бега никудышные, а скорее жалостливо поют, и мне смерть предсказывают, и меня в белый гроб кладут, и гвоздями меня заколачивают, смертную женщину, рабу Божию, Ирину Владимировну… Вот я и остановилась в смущении и подумала: встану-ка я на колени, упаду лицом в клевер, жопой в небо, закопаюсь в копну моих бергамотовых волос, и будь что будет, раз все равно выносят меня в белом гробу, и поют, поют неустанно. Будь что будет! Как поймет – так и сделает! Выебет так выебет, закопает так закопает, все равно отпевают всех и каждого… И вот так стою я на коленях, посреди поющего поля, которое полнится совершенно русскими голосами, а нечисть главная, поганая меня пощипывает за ляжки и ягодицы. Постояла я так, постояла, обливаясь слезами невозможного воскресения, а потом подняла голову да как закричу не своим голосом, обращаясь к тучам и смутной луне: да будешь ли ты меня ебать?!