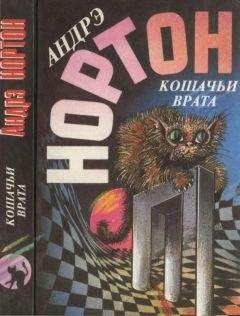Последняя минута партии протекала под невообразимый треск: оба соперника что есть силы лупили по кнопкам старых деревянных часов, а шахматные солдаты летали по комнате, как японские самураи в фильме Куросавы. Наконец раздавалось торжествующее «Ну-у-у?!» победителя и смущенное «Да, тут я маханул…» побежденного.
– Проигравший расставляет!
Фигуры поспешно возвращались на место, часы переставлялись под правую руку черных, и все начиналось сызнова.
– А мы не бздим с Трезоркой на границе…
– По-о-о-ловцы… много половцев…
Еще в «почтовом ящике» № 758 пили.
Пили много и каждый раз по поводу.
– Знаешь, Сашенька, чем творческая интеллигенция отличается от передового пролетариата? – спрашивал Троепольский. – Тем, что у пролетариата роль ведущая, а у интеллигенции – ведомая. Рабочий класс и трудовое крестьянство ведут интеллигенцию за собой, как мерина в поводу. Что это значит, милая Сашенька? Что интеллигенции нужен повод. Это пролетарий может пить без повода, а вот интеллигент без повода не пьет никогда. Никогда! Итак, какой у нас сегодня повод?
Повод находился всегда. Праздник, получка, премия, день рождения – если не сотрудника лаборатории, то Карла Маркса, если не Карла Маркса, то Фридриха Энгельса, если не Фридриха Энгельса, то Александра Пушкина…
– Я готов пить за всех, кроме Мусоргского, – говорил Димушка. – За Мусоргского пить нельзя – Мусоргский алкоголик.
Начиналось обычно с одной бутылки портвейна. Вера Пална приносила стаканы. Завлаб выходил из начальственного кабинета и присоединялся к коллективу. Затем посылали гонцов в близлежащие лабазы. Покончив с добавкой, мужчины перемигивались и дружно устремляли свои взгляды на Грачева. Тот вздыхал: «Ну что с вами сделаешь?» – и, звеня связкой ключей, шел к сейфу, где хранилась огромная бутыль с медицинским спиртом. Лаборатория дважды в месяц получала по пятнадцать литров на неведомые научные нужды. Выпивалось все без остатка.
Вера Пална, заметно покачиваясь на потерявших привычную звонкость каблуках, приносила магнитофон. В комнатах гасили свет, и объявлялись танцы. Обычно в этот момент Зиночка вздыхала, собирала в единую гроздь сумки с накупленными за день продуктами и говорила:
– Пойдемте, Сашенька, рабочий день подошел к концу. То, что произойдет здесь дальше, оскорбительно для таких целомудренных натур, как мы с вами.
И мы уходили из грачевского полуподвала – без оглядки и без сожаления. Я помогала Зиночке дотащить сумки до автобуса. Как-то она сказала мне:
– Ну что, насмотрелись? А ведь когда-то они были такими же, как вы – молодыми и полными надежд. Ладно, не надежд – но хотя бы иллюзий. Ладно, не иллюзий – но хотя бы сил. Они были исполнены молодых сил и желания что-то делать – уж примерно так-то можно сказать, а? Можно? И что теперь? Чем они заняты теперь, на четвертом-пятом десятке? Разве это жизнь, Сашенька? Неужели вы хотите так жить?
Нет, не хотела. Я не хотела так жить. Мне было страшно подумать, что Димушка не врет, что так обстоит повсюду, во всех бесчисленных ящиках. Может, Фрэнк Розенблат действительно утопился? Ведь нет никакого смысла делать машину, похожую на человека, если этот человек – Димушка или Грачев…
Если что и радовало, так это то, что я родилась не мужчиной, а женщиной. У мужчин грачевского полуподвала не было ничего, никакого дела. Вообще ничего, кроме выпивки и «Трезорки на границе». Женщин, по крайней мере, спасала семья. Женщины были по горло заняты домом, детьми, а также, как выражалась Зиночка, «добычей бесполезных ископаемых». Ископаемых – потому что для того, чтобы хорошо накормить и одеть детей, нужно было добывать продукты едва ли не из-под земли; бесполезных – потому что кто из них потом вырастал, из этих детей – Троепольские?..
Октябрь быстро катился к ноябрю, облетал с деревьев последними листьями, тонул в серой воде каналов – подобно Фрэнку Розенблату, окончательно разочаровавшемуся в деле всей своей жизни. Время от времени звонил Лоська. Его преддипломная практика была не в пример строже моей: огромный завод со зверской проходной и лагерной дисциплиной. Впрочем, то, что они там делали, казалось вблизи не более осмысленным, чем мое полуподвальное безделье. Как тут было не вспомнить Димушкины слова о том, что разница – только в режиме содержания…
Странным образом это улучшило наши отношения: теперь мне было за что пожалеть Лоську. Ведь в происходящем не было его вины. Или была?
Он звонил с улицы из телефона-автомата возле заводской проходной:
– Я приду?
– Приходи, – отвечала я.
Звонок в дверь следовал только часа через полтора: завод находился в пригороде, так что дорога туда и обратно показалась бы долгой даже героям Гомера. Чувствуя себя Пенелопой, я сажала своего Одиссея за стол, наливала ему чаю, нарезала хлеб, ставила вариться сосиски. Бимуля осуждающе смотрела со своего наблюдательного поста за комодом: она все никак не могла взять в толк, как я могу переводить такое добро на посторонних уличных кобелей. Лоська сидел, сгорбившись, – он сильно уставал на этом заводе.
– Знаешь, – говорил он, – мы там, в основном, просто сидим. Выйти нельзя, ничего нельзя, надо сидеть. Или курить, но сколько можно курить? Рыть канаву было намного легче. Когда знаешь, зачем – это одно… а когда не знаешь, это ж такая вдруг усталость…
Ему было совсем не до любви, моему бедному Лоське. Он оживлялся только тогда, когда заговаривал о том, как мы пойдем подавать заявление. Девятое ноября, вторник, сразу после праздников. На заводе можно было заработать отгулы – овощебазами, сдачей крови, еще чем-то, и Лоська заранее высвободил себе этот день.
– Ты там у себя тоже реши этот вопрос, чтобы потом проблем не было…
Я успокаивала его:
– Не волнуйся. В Мариинском проезде проблем не бывает. Мы не бздим с Трезоркой на границе.
Лоська тяжело вздыхал и смотрел на часы:
– Ладно, мне пора. А то еще будет допытываться, где да что… Да, слушай, я тут еще раз подправил… – он протягивал мне запечатанное письмо. – Где предыдущая версия?
– Вот, пожалуйста.
Мы обменивались конвертами – как Маша с Дубровским, только что не через дупло. Валентина Андреевна по-прежнему пребывала в неведении относительно коварных намерений сына. «Ставить ее перед фактом» Лоська предполагал письмом. Он долго сочинял это судьбоносное послание, писал, переписывал, отказывался от первоначальных вариантов и вновь возвращался к ним. Мое участие в этом творческом процессе выражалось в хранении текущей версии. Прятать конверт дома Лоська не хотел, считая это неоправданным риском.
Согласно плану, я должна была принести Лоськино послание прямо к ЗАГСу девятого ноября в десять часов утра. Лоська будет там еще раньше на случай очереди. Подав заявление, мы отнесем письмо на проспект Декабристов – прямиком в почтовый ящик Лоськиной квартиры. Затем мой будущий муж позвонит Валентине Андреевне на работу и скажет, что не придет сегодня ночевать. Конечно, она начнет задавать вопросы, в ответ на которые он сошлется на письмо в почтовом ящике: мол, все объяснения там. Следующие несколько дней Лоська поживет у меня – пока не схлынет первая волна возмущения.
Сказать, что этот план казался мне трусливым, значит не сказать ничего. Будь я на месте Валентины Андреевны, меня больше всего возмутил бы не сам обман, а недостойное мужчины поведение сына, побоявшегося предстать перед ней лицом к лицу. Наверно, до знакомства с «грачевцами» возмутилась бы и я сама – на своем собственном месте. Но проведенный в полуподвале месяц октябрь научил меня жалеть этих несчастных мужчинок. Поэтому я предпочитала помалкивать, когда Лоська с гордостью посвящал меня в детали задуманной комбинации. Какое слово придумал для него святой Сатурнин? «Никчемужество»… – этакая забавная комбинация никчемности и ничтожества. Можно ли ждать мужества от никчемужества?
Я словно смотрела на все это со стороны – так, будто происходящее не очень-то меня и касалось. Возможно, поэтому девятое ноября пришло по мою душу так внезапно, врасплох. Праздники мы провели втроем с мамой и Бимулей, а вечером восьмого позвонил Лоська.
– Все в порядке? – он говорил взвинченно, в спешке.
– Конечно. А что может быть не в…
– Я тут выскочил на минутку, – прервал меня он. – Надо возвращаться. Звоню просто, чтобы напомнить. Последняя проверка. До старта нам осталось четырнадцать минут… Бр-р… Как в космос взлетаем…
– Лоська, – сказала я. – По-моему, ты как-то излишне…
– Значит, завтра в десять у ЗАГСа, – снова перебил Лоська. – Не забудь! Бр-р… До завтра!
Он повесил трубку, и только тут я вдруг по-настоящему сообразила: завтра. Завтра я иду подавать заявление. Ставлю себя перед фактом. Вот уж действительно бр-р… Что теперь делать?
– Во-первых, прекрати паниковать, – прозвучал в голове трезвый голос моей умной ипостаси. – А во-вторых, достань этот чертов конверт и положи его на комод, чтобы завтра не забыть.