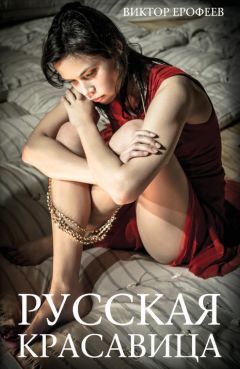– Не бойся… – попросил он.
Я слабо пожала плечами: просьба немыслимая.
– На поле было холодно… – полувопросительно произнес он, будто старался завести светскую беседу.
– Холодно… – пробормотала я.
– Сентябрь, – рассудил он.
– Теперь мне хана… – пробормотала я.
– Ну, почему? – мягко усомнился он.
– Ты пришел.
– Я пришел, потому что ты больна.
– Не стоило беспокоиться… Ты же умер.
– Да, – послушно согласился он и добавил с несвежей улыбкой: – С твоей помощью.
– Неправда, – медленно покачала я головой. – Неправда. Это ты сам. От восторга.
Он сказал:
– Да нет! Я не жалею…
Я взглянула на него с вялым, почти равнодушным подозрением.
– Не веришь? Зачем мне лгать?
– Я тебя не убивала… Это ты сам… – качала я головой.
– Хорошо, – сказал он.
– Я тебя не убивала… Это ты…
– Ах, какое это имеет значение! – нетерпеливо воскликнул он.
– Для тебя, может быть, уже ничто не имеет значения, а я здесь живу, где все имеет.
– Ну, и как тебе здесь живется?
– Сам видишь… прекрасно.
Помолчали.
– И долго ты собираешься так жить?
– Нет уж, хватит с меня! – отвечала я с живостью. – Надоело! Заведу себе наконец какую-нибудь семью, ребенка…
Он посмотрел на меня с глубочайшим сочувствием, если не с соболезнованием, во всяком случае, он посмотрел на меня с такой жалостью… я этого не выношу! я терпеть не могу! Я сказала:
– Ты, пожалуйста, так не смотри. Ты вообще лучше уходи. Уходи, откуда пришел. Я еще жить хочу!
Покачал головой:
– Не будет тебе жизни.
Я говорю:
– В каком смысле? Станешь меня постоянно преследовать?
– Как ты не понимаешь? – удивился он. – Я тебе благодарен. Ты избавила меня от позора жизни.
– Этого нельзя делать, – сказала я.
– Ты облегчила мою участь…
– Ах, брось! – передернула я плечами. – Дай бог всякому так пожить!..
– Мне стыдно… стыдно… стыдно… – лопотал Леонардик как безумный.
– Понимаю, – усмехнулась я. – Пожил, погулял, теперь самое время покаяться…
– И буду каяться! – выкрикнул он, брызнув слюной.
– Неужели в этом ты тоже преуспеешь? – удивилась я.
Помолчали.
– Ты жестока, – наконец вымолвил он.
– А ты?
Он встал и принялся ходить взад-вперед по комнате, взволнованно, будто живой.
– Мы с тобой, – объявил, – связаны гораздо крепче, чем ты думаешь. Мы связаны не только моей кровью…
– Опять ты об этом! – поморщилась я. – А кто меня обманул? Золотая рыбка! Кто обещал жениться?.. Женился? Ну, вот и отстань! Я сама разберусь.
Он остановился посредине комнаты и тихим голосом произнес:
– Я хочу на тебе жениться.
– Что?! – изумилась я. – Раньше нужно было об этом думать! Раньше! Теперь это просто смешно! Жених! – фыркнула я, окатив его взглядом. – Нашел дуру!
Он понурился от моих слов, однако не спеша продолжал:
– С тех пор, как я стал свободным…
– Ах, ты стал свободным! – перебила я его. – Ну, конечно! Теперь ты волен являться ко мне, хотя раньше ты сюда ни ногой. Теперь ты освободился от своей Зинаиды Васильевны…
При имени Зинаиды Васильевны он только рукой махнул:
– Я жил с пустотой.
– Теперь ты сам – пустота! – разозлилась я. – Иди кайся в другое место! Ступай на дачу, к Зинаиде! Она тебе очень обрадуется.
– Мне никто не нужен, кроме тебя. Ты пойми…
– Ничего я не хочу понимать! Может быть, ты забыл, но у нас здесь такое не принято! Такие браки не регистрируются. Такого вообще не бывает, не морочь мне голову!
– Так ведь необязательно… необязательно здесь… – произнес он с болезненной робостью.
– Ах, вот что! – вскричала я, догадываясь. – Вот что ты мне предлагаешь! Переехать! Только чуточку подальше, чем мне предлагала мамаша…
– Все равно тебе здесь не жить…
– Да перестань ты меня пугать! Я не пропаду – не беспокойся! Я теперь, к твоему сведению, не иголка – не потеряюсь. Меня шесть американок поддержали. Слышал, может быть? По радио передавали.
– О чем ты говоришь? – всплеснул он руками и немедленно спрятал их за спину. – Ты послушай меня…
– Только не говори, что у вас там лучше. Только не уговаривай меня… Мне и здесь будет хорошо!
– Здесь тебе будет очень хорошо! – издевательски сощурился Леонардик.
– Молчи! – вскрикнула я. – А что там?
– Там ты будешь со мной. Мы соединимся в любви. Свет заново прольется на нас…
– Какой еще свет? – простонала я. И без того свет резал глаза.
– В этом круге жизни мы оказались пораженцами. Оба. Но ты все-таки узнала меня и назвала. Я же был настолько слеп, жизнь настолько залепила глаза… Это был катастрофический опыт. Я бежал, как осел за морковкой… Где наслаждение похоже на морковку, болтающуюся перед глазами, оно затмевает все, над ним трясешься… Я так трясся… так трясся… Я даже тебя не угадал… – Он помолчал, переводя дух. – Твои бега были куда красивее. Я пришел в восхищение… С готовностью принять смерть! И ради чего?!
– И вместо смерти приняла срам! – воскликнула я, обливаясь горючими слезами.
– Это было выше твоих сил, выше всяких человеческих возможностей, – ласково покачал головой Леонардик. – Как бы ты ни бежала, ты заранее была обречена на поражение… Когда ты плачешь, ты божественна, – прошептал он.
– Я хотела, как лучше, – сказала я.
– Верю! Но для этой страны (он постучал страшным ногтем по туалетному столику), для нее колдовство охранительно… Стало быть, в этот раз ты была не спасительница, а посягала на разрушение, ты бежала против России, хотя ты и красиво бежала…
– Почему это против? – обиделась я.
– Потому что колдовство заговаривает кровь, но – как цемент – связывает центробежные силы… Кое о чем в этом роде я догадывался при жизни, но я умудрился сделать все для того, чтобы мне никто не поверил… Стыдно!..
– Заладил!
– Нет! – встряхнулся Леонардик. – Это какое-то наваждение! Не только живые, но и тамошние, бывшие сограждане не могут с ним совладать… Как будто нет ничего другого!
– Как-никак, шестая часть суши, – заступилась я за сограждан.
– Так ведь только одна шестая! – возразил Леонардик.
– Где же, по-твоему, столица? – поинтересовалась я.
Он со значением устремил взгляд к потолку и затем плутовато улыбнулся:
– Ты всегда хотела столичной жизни… Зачем откладывать?
– Если ты меня любишь, то будешь ждать, – ответила я, тоже прибегнув к незначительной хитрости.
– Я не могу ждать. Я истомился без тебя…
– Ты мне лучше вот что скажи! – отвлекла я его и вдруг неподдельно обрадовалась: – Если ты явился, ну, раз ты явился, значит, Он есть? Есть?
– Значит, я есть, – горестно усмехнулся Леонардик.
– Нет, погоди! А Он?
Леонардик упрямо молчал.
– Неужели ты там Его не чувствуешь? – поразилась я.
– Нет, почему? – безо всякой охоты молвил Леонардик. – Чувствую. Чувствую и каюсь, сгораю от стыда. Но ничего не могу с собой поделать. Ты притягиваешь сильнее.
Он затравленно посмотрел на меня с диванчика.
– Нам с тобой нужно утолить эту страсть, чтобы вернуться к Нему.
– Значит, Он есть! – возликовала я.
– Чему ты радуешься?
– Как чему? Вечной жизни!
Леонардик скривил многоопытный рот.
– Нашла чему радоваться… Чтобы ее обрести, нужно очиститься от себя, расстаться со своим дорогим «я», которое чем больше мечтает и волнуется о своем бесконечном продолжении, тем скорее обречено на гибель и переплавку… Законы материи тяжелы, как сырая земля, – вздохнул он.
– Тебя послушать, так нет никакой разницы, есть Он или нет!
– Я говорю про тяжесть материи, – возразил Леонардик. – Его лучи почти не согревают землю. Казалось бы, отличие между верующим, перед которым открыт путь, и неверующим, который прах и лопух, должно быть гораздо больше, чем между человеком и амебой, но ведь на самом деле разница микроскопическая…
– Люди действительно живут так, будто Его нет, но они потому и живут, что Он есть.
– Ишь ты как бойко рассуждаешь! – удивился Леонардик.
– А ты думал! – польщенно улыбнулась я.
– Тем не менее… – тускло произнес Леонардик. – Что ни возьми… Даже гордость по поводу удачного рассуждения зачастую перевешивает ценность самого рассуждения. Это входит в состав культуры той самой неизбежной примесью, что никогда не допустит ее высокой истинности… Проклятая тяжесть! – опять вздохнул он.
– Неужели от нас ничего не останется?
– Здесь – кости, там – смутная память о прежних воплощениях… Целая колода воплощений. Дурная, в сущности, игра. Мы только маска витального сгустка, но пока мы любим…
– Какой-то он неблагостный, этот твой бог! – поежилась я. – Может быть, ты его неправильно чувствуешь? Может быть, это и есть твое наказание?
Он побледнел, хотя вовсе не был розовощекий.
– Может быть… – пробормотал он.
– И ты еще зовешь меня к себе! – возмутилась я. – Что же ты можешь мне предложить, кроме этой тоски и холода?