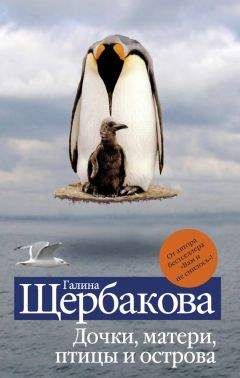Я не знаю, что потом оно настигнет и меня.
То, что Мила уехала, не оставив записки и не сказав до свидания, обидело. Я пришла забрать у нее библиотечную биографию ее отца, но дверь была открыта, два матраца свернуты и лежали у изголовья, как в казарме. Две чистые кастрюльки стояли кверху дном. На них лежали крышки. Две чашки тоже были дном кверху, а в третьей стояли зубьями вверх алюминиевые вилки, ножи и ложки. На крючке висела дворницкая амуниция. Не было библиотечной книги, книги студента и фотографии. На стене осталась висеть фотография Нюры и стриженой девчонки в пальто с рукавами до колен на вырост. Мила не взяла и отдельную фотографию Нюры, когда та была еще молодая.
И тут я поняла значение слова «брехуха», которое тогда произнесла Мила. Так она назвала Нюру. И лицо, которое хотелось мне смыть, было лицом ненависти. Господи, за что? Как она смела?
«Свинство», – подумала я, снимая фотографии со стенки. Потом мне стало стыдно, что я как бы выставляюсь лучше, чем она, а потом стало страшно за нее, уже немолодую, темную, не знающую мира. Ушедшую в никуда.
В домоуправлении мне сказали, что она уволилась. Получила деньги и отпускные, и ей еще в дорогу собрали, кто сколько мог, но не сказали про это – не взяла бы. Просто сказали: полагается. Из невнятных рассказов – кто что слышал – я поняла, что она уехала в те края, где погибли ее родители. Сказала, что хочет умереть там же. Господи! Какое – умереть? Но как-то ясно представилось, как она ложится на стылую землю в холодном лесу, аккуратно на груди складывает руки, под которыми лежит книга с фотографией. Смотрит в серое равнодушное небо и тихо отдает Богу душу. «Глупо! Глупо!» – кричу я в себе. «Но почему?» – отвечает мне чей-то голос. Что ее связывало с людьми? Ты пожила с ней, а потом канула в гуще своих проблем. Сколько раз ты у нее была с тех пор, когда раскопала факт ее рождения? Ты была горда открытием, тем, что помогла ей вернуть имя и фамилию. И что она, Маугли города, могла с ними делать? Друзья твои с третьего этажа были счастливы, что она исчезла у них с глаз. На радостях сделали ремонт. Ну и правильно. При чем тут они? Ни с какой стороны перед ней не виноваты. Ну, поопасались ее на всякий случай – вдруг начнет что-то предъявлять? «С какой, собственно, стати, – сказал папа Валюшки. – Она тут, считай, и не жила. Вообще, куда она делась? Вполне возможно, что и авантюристка».
В правду верить – себе дороже. Даже если все доказано.
Фотографию Нюры я положила в альбом к своим умершим родным. Хотите верьте, хотите – нет, но альбому это не понравилось. Он сваливался с полки, он издавал хрусткие звуки. Моя родня отторгала чужачку. И я положила фотографию Нюры в свой аттестат зрелости. Равнодушие тонких корочек было умиротворяющим и способствовало забвению. Какая нужда может заставить человека заглянуть в аттестат? Ни-ка-кая! Прошлое отрезается острыми ножницами, думала я тогда. Я не знала, как оно капсулируется. Чужой опыт, опыт Нюры-Милы, меня не предостерег.
На этом, собственно, моя, то есть связанная со мной, история Милы-Эмилии и закончилась. Но есть какие-то законы другой жизни, не той, что встал, умылся, пописал и пошел на работу, а те, что вяжут цепь не из грубой материи, а из невидимых нитей тонкой. Они-то и вывязывают смысл того, что простой человек понять не может. И потому моя жизнь окажется надолго связанной с не попрощавшейся со мной дворничихой. И тут, как говорится, ни дать ни взять.
Я оканчиваю институт транспортного машиностроения и уже знаю, что буду работать на мытищинском заводе. Мне завидовали – близко от Москвы. И квартиру там можно скорей получить. Что как раз оказалось брехней. Городов, где квартирные очереди не имеют бесконечно растущего хвоста, у нас не бывает. Я же кайфую в общежитии уже два года, нас в комнате двое. Я и барышня из Олонца. Тихая такая карелочка, которая мечтает вернуться на родину и устроиться экономистом в леспромхозе. Никогда сроду в Москве не осталась бы – говорит категорично. А я видела фиктивные браки за пол-литра, за кормежку в течение двух лет, за деньги на мотоцикл и на альпинистское снаряжение.
Хотела ли я замуж? Честно, нет. Нас с мамой рано бросил отец. К бабушке дед тоже не вернулся с войны, нашел по дороге домой другую. Я боялась такой же судьбы. Но я была крупная, сильная девка, и соки во мне бурлили совершенно недвусмысленные. И хоть «переспать» давно уже не было грехом, я себя блюла. Вот почему мне было хорошо с Лидой из Олонца. Мы обе были принципиальные девушки. Господи прости!
И тут из Олонца к Лиде приехал парень. Привез ей какую-то посылку. Он был первокурсник, щупленький такой пацанчик с кудрявыми волосами. Звали его Фимка Штеккер, что по-нашему – Штырь. На Штыря Фимка обижался, лез дать в морду, и самое в этом любопытное – обзываться перестали, стали звать по-свойски Фимычем: парень вроде хороший, разве что фамилия подкачала со всех сторон.
Он был лихой анекдотчик, трепался без остановки. Парни из моей группы были как колуны, тяжелые и неразговорчивые. Юмор их был исключительно ниже пояса. Мне же всегда нравился треп со вкусом. Причем на все темы, кроме нижних. Я любила слушать высокий, тонкий голос Валюшки, вещавший о страдалице Пенелопе, и изящную болтовню Елены Васильевны о преимуществах польских кремов перед нашими, и трамвайную свару, если она без лютой злобы, а так, на уровне «сам дурак». Фимке явно нравилось, как я хохочу. В общем – невысокое начало для любви, но какое уж есть. А Фимка возьми и прилипни.
Сначала было просто смешно (слон и моська), а потом, сама не заметила как, я стала испытывать к нему благодарность за то, что во мне, большой и тяжелой, он увидел просто девушку. Я была на шесть лет его старше. Но все полетело к черту – дипломная работа, распределение, Валюшка, к которой я все собиралась зайти. Я себя не помнила. И все у нас было. Я проглядела, что вдруг кому-то понадобились Мытищи, и получила взамен Челябинск. Отбивалась чуть ли не ценой комсомольского билета, сама поехала и устроилась на мытищинский завод мастером цеха, сняла комнату рядом со станцией, чтобы сократить время дороги для Фимки. Комнатенка – ужас даже по сравнению с подвалом Милы, зимой в щели залетал снег. Я привезла от мамы три старых ватных одеяла и, не думая о страхолюдности дизайна, обила ими стены, что не спасло меня от воспаления легких и больницы, из которой меня забрала мама, уволила с работы и увезла домой в родной Калязин. Но до того, до того… Еще только разыгрывалась болезнь. Я рыдала не от нее, не оттого, что мне не хочется болеть. Я рыдала, потому что Фимка канул.
Он исчез, увидав эту комнату в одеялах и меня в хозяйских страшных валенках. Как раз пришла врач и сказала, что опасается воспаления легких.
– Вы ей кто? – спросила она Фимку.
– Товарищ, – ответил он.
– Подождите, товарищ, неотложку. Поможете с транспортировкой. – И, оставив направление на столе, врач ушла.
У меня тогда было уже под сорок, но он все-таки трахнул меня и даже высадил на горшок пописать, но дожидаться неотложки не стал, сказал, что в расписании электричек большой пропуск и если он не уедет сейчас, то ему придется застрять до ночи. В общем, что-то такое электрическое ему мешало, я плохо соображала, и он выскользнул из одеяльной комнаты, не успела я поднять тяжелые болючие веки.
Но главное – я забеременела в своем температурном аду.
В полубреду я сообразила оставить хозяйке адрес больницы, куда меня отправляли. Для Фимы. Он не приехал ни разу. Выписавшись из больницы, я оставила ему калязинский адрес. Тоже напрасно. Когда я слегка оклемалась дома и поняла, какая у меня задержка, я написала ему письмо на институт. Ни-че-го.
Врачом-гинекологом была моя школьная подруга. Я рассказала ей все, она ответила, что не рекомендует оставлять ребенка: что там могло завязаться при температуре сорок? Но надо все-таки посоветоваться с более опытными врачами. Где их взять? Надо ехать в Москву. Мама меня подкормила, конечно, но той большой девицы, которая была раньше, из меня уже не получилось. Правда, все признали, что мне так лучше. Бабушка посетовала: «Тебя бы одеть красиво, была бы как Ларионова».
Но мы были бедны. Мама всю жизнь ишачила в школе завучем, с утра до вечера. Отец мой сбежал, когда мне было пять лет. Сколько сейчас ни пытаюсь вспомнить его живым, не получается. Только во сне он приходил, гладил меня по голове и повторял: «Учись, доченька, без образования теперь ни тпру ни ну…» У нас были сад и огород, бабушка на базарчике торговала яблоками и облепихой, молодой редиской и зеленым луком. Не голодали – точно, но чтоб что-то купить – только с рук или в комиссионке. Дом то там, то сям требовал укрепления, покраски. Как ни крути, дом важнее пальто. И еще по чуть-чуть откладывалось на смерть бабушки. Получилось для мамы.
Приехав в Москву, я как-то быстро устроилась в технический отдел управления городским транспортом – у меня была еще московская прописка. Самый беспокойный отдел: все ломалось, все сходило с рельс, все горело. Службы спасения как таковой еще не существовало. Зато была я с двумя-тремя рабочими и машиной с краном. Элементарная аварийка, в которую никто не хотел идти. А я мечтала, идя в управление, о каких-то новых инженерных идеях, о двухэтажном троллейбусе, например. Но оказалось, молодая и энергичная девица нужна была для работы грубой, а подчас и неподъемной. О беременности своей я молчала. Кто бы меня такую взял? Я боялась идти к врачу, чтобы не было утечки информации. Тем более что я чувствовала себя хорошо и все собиралась сходить к Фимке.