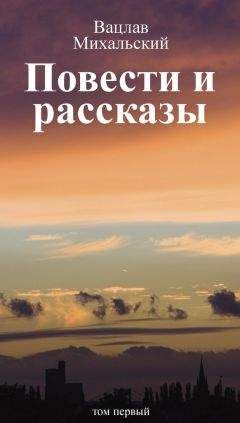Он ждал Катю полтора часа… Стоять на солнцепеке становилось с каждой минутой все неприятней, все муторней. Затекли ноги, и стало горько во рту, и некуда было положить пиджак, а от стальной махины насоса все противнее пахло разогретым на солнце металлом, старой нефтью, пылью далеких планет. До рези в глазах всматривался он в приезжавших с каждым очередным троллейбусом, но Кати все не было.
Она появилась только в половине шестого, когда Георгий полностью одурел от неизвестности и был уже готов отправиться на поиски Кати.
– Прости, ради бога! – задыхаясь от быстрой ходьбы, сказала Катя. – Забежала к Сережке в садик попрощаться, а он разбил нос. Побежал ко мне – упал и разбил. Никак не могли унять кровь. А потом не отпускал меня. Когда уходила, такой рев поднял, прямо чуть сердце не разорвалось. Как будто чувствует, что я к тебе, как будто ревнует. Ты не представляешь – никогда о тебе не спрашивал, а тут спросил: «А тот дядя еще придет к нам?» – «Какой?» – говорю. «Ну тот который приходил давно, когда я на горшке сидел». Представляешь?!
– Ничего-ничего, – растерянно сказал обалдевший от ожидания, счастливый Георгий. – Дай сумку. – Надев пиджак, он взял из Катиных рук тяжелую, набитую сумку. – Как ты тащила?!
– Да я привычная, – улыбнулась Катя, прижимаясь щекой к его плечу. – Пошли? – Она подняла с земли портфель.
– Пошли.
– Жарко тебе в костюме, да еще и при галстуке!
– Что делать – служебная командировка, – засмеялся Георгий. – Было жарко и без пиджака, а когда ты пришла – сразу стало нормально.
Кажется, они не попались никому на глаза, прошли тайком, и это радовало Георгия, хотя он и старался показать Кате свою свободу и раскованность: время от времени что-то насвистывал, намурлыкивал.
– По-моему, нас никто не видел! – сказала Катя, когда добрались до места.
– Да какая разница – видел, не видел, – с напускной небрежностью ответил Георгий. – Смотри, а земля под деревьями потрескалась. Надо полить на ночь. Польем?
– Конечно. Ой, какой хорошенький у тебя домик, точь-в-точь как мой!
– Я его когда-то сам сделал, – похвастался Георгий, откручивая проволочную завертку на петлях двери.
– А чего без замка? – спросила Катя.
– Воровать нечего. Без замка – это как раз психологическая защита. Подойдут, посмотрят, что нет замка, – значит, и брать здесь нечего. И пойдут дальше – к тем, у которых большие замки.
– Хитроумный!
– А как же. Прошу к нашему шалашу! – Георгий распахнул громко скрипнувшую дверь домика.
Посидели на узкой, застеленной темным байковым одеялом железной кровати, отдохнули.
– Можно, я похожу в плавках?
– Ради бога.
– Ты не забыла купальник?
– Взяла.
– Переоденься. Будем как на пляже. Давай. – И он вышел из домика на участок.
Босые ноги радовались даже горячей, колкой земле; он шел как по жердочке, балансируя руками, и в голове у него звенело от зноя, от счастья, от голода, от предвкушения невиданного отдыха, от «наглости хода», который он предпринял. Огромная раскаленная покрышка «Икаруса», сидя на которой в начале лета он и Али пили водку, пахла вареной резиной; Георгию вспомнился сосед Аким Никифорович с его списком великих людей, с китайской розой на подоконнике, с присказкой: «Тихо и благородно», с его вопросом: «Почему, когда иду выпивши, меня то в материализм, то в идеализм так и кидает?» «Эх, балда! – вдруг пронзило Георгия. – Все-таки не поставил матери телефон!»
– Я уже, – окликнула его с порога домика Катя. Она стояла босиком, в веселом цветастом халатике с короткими рукавами, радостно щуря на солнце глаза цвета спелой вишни.
– Ну что, сначала поедим, а? – подходя к ней, спросил Георгий.
– Можно. Но я не хочу совсем.
– Тогда дай мне перекусить. А после того, как соберемся, устроим праздничный ужин, лады?
– Лады! – засмеялась Катя. – Будешь сыр, помидоры?
– Еще бы! Мне только червячка заморить.
Палатка и надувные матрацы, которые извлек Георгий из старого деревянного сундука, зацвели от долгого лежания, и их было нелегко расправить.
– Откуда они у тебя?
– Да купил когда-то давным-давно, еще в мои газетные времена. Думал, буду ходить в горы. Сходил однажды, с тех пор они и лежат. Благими намерениями дорога в ад вымощена… Палатка хорошая, с поддоном, с окошечками, с пологом от комаров, польская. Сейчас мы ее проветрим.
В четыре руки они быстро разбили под пыльной яблонькой оранжевую палатку.
– Какой-то у нее цвет… – сказала Катя.
– Какой?
– Не знаю. Тревожный, что ли…
– Самый хороший цвет, ее и в тумане видно – все продумано.
– Ну, если в тумане… – улыбнулась Катя, обтирая ладошкой плесень с натянутой палаточной ткани.
– Надо мокрой тряпкой, сейчас я принесу воду.
Минут через десять он вернулся с полной полиэтиленовой канистрой воды.
– Родниковая! Возьми кружечку.
– Какая прелесть! – воскликнула Катя, отхлебнув из кружки. – Не то что в городе.
– Были бы мы не такие растяпы – большая половина города пила бы эту воду, – сказал Георгий. – Родники здесь отличные, но их нужно восстанавливать. Я это дело обеспечу.
Сборы заняли уйму времени; уже совсем стемнело, когда два туго набитых рюкзака – один большой, а другой поменьше – встали в дверях домика.
Ужинали при керосиновой лампе. Георгий вынул из портфеля бутылку марочного коньяка.
– Давай вместе выпьем, посмотрим, какая ты пьяная! – Георгий обнял Катю, поцеловал ее в висок, в сладко пахнущие волосы. – Ну что, будем коньяк из кружки – по-французски?
– По-французски, – засмеялась Катя. – Ой, а я пьяная – хулиганка, я тебя побью, не боишься?!
– Боюсь, но все равно выпьем.
Так они сидели в тишине дачи, при желтом свете керосиновой лампы в домике, который Георгий сделал своими руками, – все было здесь настолько настоящее, милое, свое, что он подумал, глядя на зарумянившуюся Катю: «Как, оказывается, хорошо, когда рядом желанная женщина и никуда не нужно спешить, – век бы так жил!» Георгий снова почувствовал себя молодым, смелым, сильным, и вся жизнь, казалось, пошла по новому кругу, с чистой страницы.
Заснули быстро, еще до полуночи, под турчание лягушек на дальней канаве и противный звон одинокого комара, наконец насытившегося их кровью.
Когда, проснувшись перед рассветом, Георгий открыл глаза, Кати рядом с ним не было.
Настороженно оглядев темную комнатку, Георгий собрался с духом и, споткнувшись о стоявшие у самых дверей рюкзаки, вышел за порог.
Слава аллаху, Катя сидела под яблонькой на огромной покрышке «Икаруса» в халатике, распахнутом на высокой груди, босиком.
– Ты как Ева под древом познанья добра и зла, – вздохнув с облегчением, добродушно усмехнулся Георгий.
Машинально запахивая халатик и убирая с лица русую прядь волос, Катя потянулась к ближней ветке, сорвала еще зеленое яблочко, чуть надкусила и с лукавой улыбкой подала Георгию.
Он принял ее игру, взял запретный плод и, откусив с хрустом большую его часть, изрек набитым ртом торжественно и шепеляво:
– «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Так говорит нам Екклесиаст, или проповедник.
– Откуда это?! – пресекшимся от восхищения голосом спросила Катя.
– Из Библии.
– Ты знаешь Библию?!
– А что тут удивительного – все-таки я историк, после института даже собирался поступать в аспирантуру и писать диссертацию по научному атеизму. Библия – историко-литературный памятник. Почему же мне ее не знать?
– Да, конечно, – неуверенно сказала Катя, возвращаясь мысленно к своему сокровенному, к тому, о чем думала до появления Георгия.
– Скоро начнет светать. Уже розовеет небо, – потягиваясь, расправляя затекшие плечи, проговорил Георгий.
– Наверное, – безучастно согласилась с ним Катя.
С наслаждением ступая босыми ногами по темной от росы садовой дорожке, Георгий прошел в дальний угол участка, к фанерной будке.
Катя проснулась давно и уже минут сорок сидела здесь, в садике, на высокой резиновой покрышке. Она проснулась оттого, что Георгий довольно внятно проговорил во сне: «А мне плевать, что скажет Марья Алексеевна!» Катя поняла, что он спорит с кем-то из-за нее, отстаивает свою свободу, бунтует, и ей стало жаль Георгия до слез, как будто он был ее маленький, беззащитный забияка Сережка. Когда в интернатском драмкружке они ставили «Горе от ума», Катя была суфлером и хорошо помнила многие реплики этой комедии. Мир был еще погружен в предрассветное оцепенение – ни ветерка, ни звука, – и в этой глухой тишине Катя ощутила особенно явственно, почти физически, подспудную, томительную работу своей души. Она думала о жене Георгия, которую никогда не видела, но боялась, потому что чувствовала себя виноватою перед ней; о Сережке, как казалось, брошенном ею в садике; о том, как легко и спокойно с Георгием, понимающим все с полуслова; о том, как ей теперь сладко и страшно жить, когда душа разрывается на части между Сережей и Георгием, между долгом и радостью, между понятием порядочности, прочно жившим в ее сознании с ранних лет, и не подвластным ей, горячечным желанием видеть, слышать, осязать Его, постоянно, всегда, как будто свершилось над ней старинное русское заклятье, которое заучила она когда-то в драмкружке, но даже вообразить себе не могла, что именно так оно и бывает – буква в букву, ничего лишнего или лживого не придумывает народ. «Вставайте вы, матушки три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, и берите свое огненное пламя; разжигайте рабу (Екатерину), разжигайте ее во дни, в ночи и в полуночи, при утренней заре и при вечерней. Садитесь вы, матушки три тоски, в ретивое ея сердце, в печень, в легкия, в мысли и в думы, в белое лицо и в ясные очи, дабы раб божий (Георгий) казался ей пуще света белаго, пуще солнца краснаго, пуще луны господней; едой бы она не заедала, питьем бы она не запивала, гульбой бы не загуливала; при пире она или при беседе, в поле она или в доме, – не сходил бы он с ея ума-разума». Так оно и было. Так и казался он ей – «пуще света белаго, пуще солнца краснаго», так и «не сходил с ея ума-разума»…