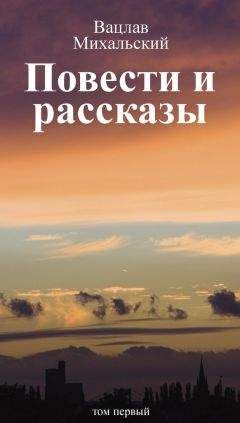– Спасибо! – просиял мальчик.
– Чем-то похож на твоего Сережку, – сказал ему вслед Георгий.
– Очень похож, очень. Я все время только об этом и думала, – подтвердила Катя. – А кто такой Сулейман?
– Сулейман – директор детдома. Действительно великий человек. А детдом у них удивительный. И гранатовый сад в двадцать гектаров, и корпуса спален стоят в этом саду – двенадцать корпусов. Я когда работал в молодежной газете, печатал о нем статью, с тех пор мы кунаки. Не дай бог узнает, что я был в этих местах и не зашел, – обида будет! Дети за ним как за каменной стеной. А вся обслуга у него в детдоме из бывших воспитанников: повара, водители, завхоз, бухгалтер, кочегары, завпрачечной. Кстати, такую себе прачечную и баню отгрохал, что и не в каждом городе есть! А посмотрела бы, как он устраивает своих питомцев в техникумы, в институты, в училища. Самых способных, двух-трех, оставляет доучиваться до десятого класса, а потом толкает их в институты. Ты бы посмотрела – во время приемных экзаменов сидит, как настоящий родитель, на жаре, болеет вместе с другими родителями под дверями университета или института. В прошлом году приволок мне домой взятку, – Георгий улыбнулся, хмыкнул радостно, – самую настоящую – два ящика отборных яблок. Пришел домой просить, чтобы я протолкнул одного его парня в художественное училище, говорит – талант, пять лет у него стенгазету оформлял.
– Ну что, протолкнул? – Катя взяла Георгия за руку, и они пошли, как дети, рука в руке. – У нас в интернате тоже был похожий человек – Вера Георгиевна Радченко. Мы ее очень любили…
– Протолкнул, протолкнул я того парнишку, – прервал ее на полуслове Георгий, – оказался действительно способный. А полководец, что нас подвез?!
– Полководец отличный. – Катя задумалась, вспомнила своего Сережку, как бежал он ей навстречу по дорожке детского сада, как упал и разбил нос, как долго не могли унять его алую, чистую кровь.
Они шагали бесполезной землей междуречья, усеянной мелкими камнями, поросшей кустами тамариска, пустынной землей, лишь изредка освеженной зелеными островами высоких дубов. Но и там, под этими дубами, воды не было. Видно, могучие деревья впитывали в себя воду с весны, запасались ею на долгое лето. Под одним из таких дубов сделали короткий привал, поели помидоров, которые нашлись среди запасов еды, и двинулись дальше.
После помидоров пить захотелось еще сильнее, пот застилал глаза, щипало веки, под мышками на рубашке образовались соляные круги. Губы пересохли от жажды, во рту было до противности сухо, начинало постукивать в висках. А Георгий все дразнил Катю родником:
– Чудесный, метрах в двухстах от моря, в субтропическом лесу, мощный, ледяной, а вкус у воды – я тебе передать не могу!
– Ну, не дразни! – взмолилась Катя. – Я, кажется, ничего в жизни так не хотела, как хочу сейчас глоток воды!
– А я-то дурак, – сказал Георгий, – почти три месяца с утра до вечера занимался водой, все про это дело выяснил и никаких выводов для себя не сделал, как будто лично меня это и не может коснуться.
– А какие ты мог сделать выводы?
– Пару фляжек на пояс.
– А-а, нам сейчас хватило бы даже одной, даже теплой, даже горячей от солнца.
Море было за лесом, а до леса, казалось, рукой подать, но они все шли, шли, а он все отодвигался и отодвигался. Георгий ошибся в расчетах: от развилки, где высадил их будущий полководец, до побережья оказалось не три, как он обещал Кате, а все шесть километров. Только к полудню они наконец вошли в благодатную тень леса.
– Водичка скоро? – нетерпеливо, жалобно спросила Катя.
– Скоро. Мы точно вышли. Я боялся, что заблудимся. Здесь заповедник – точно. Чуешь: пахнет влагой, гнилой древесиной… Он где-то рядом. – Георгий пристально вгляделся в просветы между высокими деревьями. – Вон! Где на дереве качели из лиан – это сулеймановские ребятишки качаются, когда сюда приходят. Точно. Родник!
Запруда была разрушена, вернее – выпало в ней несколько камней. Родник вытек в это отверстие наружу под деревья и пропитал водой довольно большую площадь; казалось, что если ему проложить русло, то он в силах добежать до самого моря; волны прибоя были не слышны сейчас, в безветренную погоду, но до берега оставалось рукой подать. Сбросив с плеч рюкзаки, они легли, упершись ладонями в камешки на дне родника, в прошлогодние палые листья, и пили до тех пор, пока не заломило в затылке.
XXIV
Они разбили палатку метрах в пятидесяти от кружевной кромки прибоя, под высоким раскидистым тополем с обнажившимися корнями, вымытыми песком и ветром до костяного блеска. Надувные матрацы пришлись как нельзя кстати, лежать на них было мягко и привольно. Катя быстренько навела в палатке уют, растыкала по местам все вещи, так что они не лезли в глаза, аккуратно разложила на широкой льняной салфетке еду. Они перекусили с дороги и решили вздремнуть полчасика, а потом уже «осматриваться по сторонам». Но как-то получилось само собой, что заснули мертвым сном и спали до лиловой вечерней зари, до дымных сумерек, чернеющих с каждой минутой. Так что, пока встали, пока сбегали к роднику умыться, уже сияла ранняя южная ночь.
Вынув из сумочки наручные часы и разглядывая их стрелки при свете восходящей над морем луны, Катя никак не могла понять, что с часами.
– Вроде идут, а показывают всего половину девятого, – удивленно сказала она Георгию.
– Нормально. Так оно и есть. В половине девятого вечера – ночь, а в половине пятого утра – день. Здесь так всегда. Какое там в половине пятого, что я говорю! В половине четвертого светло.
– Выспались, а что же теперь? – спросила Катя.
– Теперь, – Георгий потянулся всем телом, перекатился с боку на бок по мягкому надувному матрацу, – теперь выкупаемся в море, поужинаем и еще поспим. Как говорит мой Али-Баба: «Неминожко поспим – неминожко покушиим, неминожко покушиим – неминожко поспим».
– Веселая жизнь! – засмеялась Катя. – Ну иди купайся, а я приготовлю ужин.
– Да ну его, пойдем вместе. А потом костерик запалим, чайку попьем, а?
– Здесь как в раю, – радостно сказала Катя, когда они, обнаженные, взявшись за руки, вошли в теплые воды моря, тихого, залитого лунным светом, то тепло желтеющим, то холодно-голубоватым; а за их спинами на берегу вставала черная стена леса и пламенела оранжевая палатка.
Дно оказалось песчаное, чистое, ровное, без подвохов, и они ступали по нему с детской доверчивостью, легко и радостно. Мелководье тянулось здесь на многие сотни метров вдоль побережья и на многие десятки метров в глубину. Они все шли и шли, а вода едва омывала колени. В струистом пепельном блеске застывших в безветрии вод далеко-далеко скользили их исполинские тени, чудилось – до самого горизонта, до его смутно мерцающей в безжизненном лунном свете темно-фиолетовой полосы, разделявшей море и небо.
– Куда же мы так зайдем? – приостановилась Катя. – Давай здесь купаться.
– Давай! – Георгий толкнул ее легонько и резко ладонями в плечи, и она не удержалась на ногах, но, падая, успела схватить его за руку, увлекла за собой.
– Ой, какая тепленькая водичка! – Молодой, певучий Катин голосок так неожиданно остро ударил Георгия под сердце, что перехватило дыхание – от доступности счастья, оттого, что все это наяву, и никто не мешает, и никому нет до них дела.
Георгий привлек Катю к себе, поцеловал в солоноватые от морской воды, нежные губы, она обхватила его за шею, прижалась к нему под водой: от движения рук, колен, бедер с едва уловимым шуршаньем проседал крупитчатый донный песок: как слепки мгновенной радости, вымывались и затягивались в нем углубления. Потом они бездумно сидели по пояс в воде и, как дети, шлепали по ней ладонями. Подняв мокрое лицо к высокому сияющему небу, Катя вдруг пронзительно крикнула от переполнявших ее чувств:
– Это я, Господи! Господи! Это я!
И, словно пущенный ловкой рукой камень, далеко по воде отлетело эхо: «Пади! Пади!»
Жечь костер поленились. Выпили по глотку покалывающего нёбо, дубовотерпкого, горячо прокатившегося внутрь марочного коньяка и, тепло укутавшись, умостились на ночлег. Посветлевшая до голубоватой бледности луна поднялась высоко, вызвездило, ночь наливалась свежестью, как созревающий плод соком, с севера потянул животворный в летнее время «Иван», побежали по морю кипенно-белые барашки. Полог палатки оставили открытым, так что им было видно море до самого горизонта, до его синей дуги, подчеркивающей основание сияющего в ночи небесного купола.
Катина голова покоилась на плече Георгия, им было тепло, тихо, и ничего не существовало для них сейчас, кроме этой палатки, еще пахнущей плесенью, еще не выветрившейся, плеска набегающих волн, робкого трепета белолистного тополя в изголовье, – ничего, кроме друг друга.
Где-то в лесу, за палаткой, что-то треснуло, что-то прокричало истошно, прошумело, словно могучими крыльями, взвыло и полетело, удаляясь с плачем и тявканьем. Георгий прислушался вместе с прижавшейся к нему Катей, подождал… Нет, все было тихо.