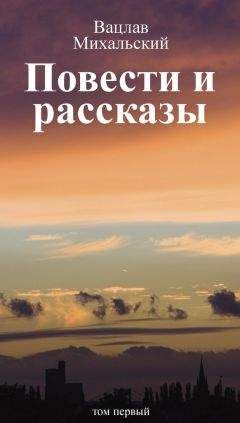– Так я пойду? – спросила старуха, гася папироску в тускло мерцающей в тени хрустальной пепельнице.
Приемщица не удерживала. Глаза ее были где-то далеко-далеко и от этого приемного пункта, и от старухи.
Выйдя на улицу, старуха пошла домой дальним кружным путем. Вечер предстоял долгий, светлый, и коротать его нужно было приноравливаться одной, лично.
«У нее тоже не медовая жизнь, – подумала старуха о приемщице, – а ведь еще молодая, всего хочется». Старуха вспомнила свою камвольную фабрику, где работали сплошь женщины, многие из них матери-одиночки или вдовы. «Камифольную или канифольную фабрику», как говорили у них. Старуха и до сих пор не подозревала, что камвол от немецкого kammwolle – чесаная шерсть. Так и проработала сорок лет под непонятной вывеской, да разве она одна? Иногда ей и сейчас снятся грохот и скрип чесальных машин, запах мокрой шерсти, мелькание голых по локоть сноровистых женских рук.
Очередь у винного магазина была такая же монолитная, но внутри нее как бы зарождалась морская зыбь, очередь начинало раскачивать – время шло к закрытию магазина, многие нервничали, что им может не достаться спасения, а ведь все вокруг говорят, будто водка помогает от атомов. «Неужели помогает? – подумала о том же старуха, – чудеса. Но если говорят, значит, знают, так просто не скажут».
Громады домов на той стороне улицы стояли уже в глубокой тени, развешанные на балконах разноцветные постирушки стали от этого ярче, похожие на соты пчелиного улья окна отливали почти черным лаком.
А тем временем приемщица быстро закрыла двери на засов и кинулась в закуток, к висевшему на плечиках свадебному платью в нахолодавшем полиэтиленовом чехле. Минут через пять она стояла перед большим трельяжем в белом подвенечном платье с фатой, и лучи почти скрывшегося за громадами домов майского солнца освещали всю ее, как оказалось, по-девичьи стройную фигуру.
Радио играло марш. Не свадебный марш Мендельсона, но что-то близкое. Глаза приемщицы светились неизжитой жизнью; делая мелкие шажки, она старалась не высовывать из-под длинного белого подола ноги в стоптанных туфлях, старалась не портить картину. Лучи веселого желтого солнца падали сквозь широкие, давно не мытые окна прокатного пункта совсем полого, и тысячи тысяч пылинок дымились в них золотистыми мушками, жили своей жизнью, расшибаясь о кафельные плитки пола, и сладок был солнечный свет, и приятно для глаз было видеть солнце, горящее на подоле подвенечного платья.
1988
Много раз возвращался Кирилл в родной город этим ночным московским поездом. И всегда у поворота, где открывались взгляду первые желтые крапинки знакомых огней, сердце его стесняли радость и ожидание чего-то необыкновенного. Вот и сейчас он вышел в тамбур раньше всех, заволновался, как только проводница открыла тяжелую железную дверь на волю, стал жадно ловить из-за ее плеча летящую мимо темноту, наполненную гулом и клацаньем колес, запахом мазута, ночной свежестью. Где-то вверху, над облаками, летела наперегонки с поездом луна, ее серебряно-молочный шар скользил в прогалинах облачного сентябрьского неба, и рельсы соседней колеи вспыхивали голубоватым огнем, казалось, звенели.
Едва поезд остановился, Кирилл спрыгнул на безлюдный, скупо освещенный перрон.
– Ибрагим! Эй, Ибрагим, отгони платформы с запасного! – хрипло гаркнуло в вышине.
Кирилл поднял голову к репродуктору, из которого разносился по линии диспетчерский бас, поглядел на высокую решетчатую стойку со слепыми глазами погасших прожекторов и улыбнулся: «Ибрагим… Как я отвык от здешних имен».
Он поднялся по старой каменной лестнице на привокзальную площадь и огляделся: прежде лестница казалась ему такой крутой и широкой, а площадь такой большой… Теперь все словно сжалось, скособочилось, вросло в землю. Лохматая дворняга перебежала ему дорогу, отбрасывая огромную тень чуть ли не на половину площади.
«Конечно, синьор, это вам не площадь Святого Марка в Венеции», – усмехнулся Кирилл и вспомнил то, что не мог забыть, вспомнил самое живое и горькое из итальянских впечатлений: площадь Святого Марка, Дворец дожей, девочку-венецианку…
Однажды вечером, среди праздной разноплеменной толпы, при звуках трех маленьких оркестров, что играют на площади Святого Марка до самого утра, она продавала гравюры. Конечно, на этих гравюрах была Венеция – с ее горбатыми каменными мостиками, черными гондолами, сувенирными лавками на мосту Риальто, тяжелыми порталами храмов. Когда он увидел девочку, сердце его на мгновение остановилось. Сладостное и жуткое чувство стеснило дыхание. Венецианке было лет семнадцать, она была так красива, что казалась нереальной, как сама Венеция. Ее высокую фигуру скрадывал черный шерстяной плащ с вырезами для рук, но угадывалась и высокая грудь, и тонкая талия, угадывалось, что тело ее так же безупречно, как лицо – белое, нежное, с большими лучистыми, как итальянская ночь, глазами и русыми волосами, привольно ниспадающими на покатые плечи. Когда она, с чуть надменной улыбкой беззащитной бедности, отвечала на однообразный вопрос «кванто коста?», припухшие губы приоткрывали два ряда безукоризненно ровных белых зубов. «А под языком ее сотовый мед», – вспомнил он из Песни Песней царя Соломона и спросил:
– Кванто коста? (Сколько стоит?)
– Кваттро миле.
– Кваттро миле! Четыре тысячи лир. Ого! У меня всего десять тысяч. – Он засмеялся. «Боже, до чего хороша!»
Они поглядели в глаза друг друга без смущения, с чистым восторгом.
– Дуе миле (две тысячи)! – сказала девочка, коснувшись его руки углом гравюры.
И тут он увидел обручальное кольцо на ее пальце и заметил курчавого курносого парня с лоснящимся простоватым лицом. Парень стоял рядом, у мольберта, и, чтобы привлечь внимание покупателей, заученными штрихами рисовал хорошо освещенный собор Святого Марка. На его руке тоже желтело обручальное кольцо.
В десяти шагах маленький оркестр играл вальс Штрауса «Голубой Дунай» и кружились по брусчатке пары.
«А если пригласить ее на вальс…»
– Дуе миле, – повторила девочка.
«Купить гравюрку, а потом пригласить…»
Но тут, пока он решался, нахлынула группа деловитых немецких туристов, оттеснила его в сторону, стала громко разбирать достоинства гравюр. То и дело слышалось «гут», «гут».
«Какой, к черту, “гут”, – подумал он, – обыкновенный ширпотреб, только итальянский. Ни одной живой детали! Гондольеры в широкополых шляпах, в рубашках апаш, подпоясанных длинными кушаками. А настоящие-то они – в свитерках, с сигареткой в кулаке “для сугрева”. Вот нарисовал бы такого: с сигареткой, в свитерке, ежащегося на сыром ветру, а не сувенирного, может быть, тогда я и купил бы за “дуе миле”… Зачем… зачем она за него вышла? Глупая!..» А оркестр все играл «Голубой Дунай», и пары кружились на площади Святого Марка, которую когда-то назвал Наполеон лучшим танцевальным залом Европы, достойным того, чтобы куполом ему было само небо…
Да, многое повидал он в Италии, многое поразило его, но ничто не тронуло душу так больно, как эта мимолетная встреча с девочкой-венецианкой, словно сама судьба посмеялась над ним, показав то, что никогда не будет ему дано.
Был второй час ночи, автобусы уже не ходили, такси тоже не было видно. И Кирилл решил идти пешком. Ему нужно было добираться в район Старого рынка – район глухих переулков и залитых помоями черных тупиков, имевших дурную славу еще с тех незапамятных времен, когда там были веселые дома и воровские притоны. Кирилл не боялся родного города. Он прожил здесь до девятнадцати лет и знал почти каждый дом. Окончил восьмилетку, затем – музыкальное училище по классу хорового дирижирования, успел полгода поработать в клубе трикотажной фабрики, потом его призвали в армию. Отец Кирилла умер от старых ран в 1948 году, мать скоропостижно скончалась в 1949-м – отравилась килькой в томатном соусе, ему тогда едва исполнилось десять месяцев.
– Мы с одной банки ели, и мне ничего, даже расстройства не было! – частенько вспоминала двоюродная сестра матери тетя Анфиса.
Тетя Анфиса, или попросту Фиса, осталась с тех пор у Кирилла единственным родным человеком, выходила и вырастила его.
«Что ей снится сейчас, старушке?» – с нежностью подумал Кирилл, сворачивая на знакомую с детства улочку.
Тетя Фиса долго не отпирала дверей – она плохо слышала, а главное, еще со времен «Черной кошки» боялась воров.
Худая, старенькая, в ночной бумазейной рубашке до пят, она всплакнула на груди Кирилла, а потом засуетилась, запричитала:
– Кирюша, да что же ты телеграмму не отбил? Я и на базар не ходила. Чем тебя кормить? Господи, да что же это делается? Ох, какой ты стал! Мужчина просто, настоящий мужчина! Как вырос!
– Бросьте, тетечка, я уже давно не расту.
– Не говори. Вытянулся. До чего похудел – ужас просто! А на лицо, слава богу, свежий! Наш Иван Васильевич как в воду смотрел. Он так мне и сказал: «Посмотришь, Фиса, вернется он с этой заграницы, как смычок от скрипки».