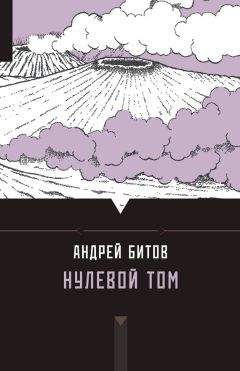Звон повсюду.
Он сидит и сидит. Подходят люди. Берут, берут градусники. Ставят их под мышки. Вот они идут целой процессией в бесконечность – все с градусниками. Идут тыщу лет. Проходят мимо.
Часы стоят.
Звон-н-н…
Но это был только миг: он взял градусник – сел с градусником – встал – подал сестре.
И вот сестра пишет и пишет на обороте номерка…
Написала: «37,0».
Так, и бюллетеня не дадут! Не дадут!! Не дадут… Что же тогда делать?! Все. Все пропало. Деться некуда. Страшно. Он такой маленький, и его что-то давит. И звенит, звенит при этом. Все пропало. Руки. Что-то странное с руками. Они разбухают, растут. Две огромные ленивые клешни вместо рук. Какой-то гуд в них. Что же делать?! Что!
Идя к кабинету, Кирилл съел подряд еще две таблетки. И выкинул пустую пачку.
– На что жалуетесь?
– Оглох. Все звенит.
– Что звенит?
– Все.
– Все?
– Все.
– Все звенит?..
– Да.
– Значит, звенит… Вытяните руки. Что с вами?
– Звенит.
– А что вы так потеете?
– Извините.
– Значит, так все время и звенит?
– Да.
– Когда зазвенело?
– Сейчас.
– Вы говорили, все время?
– Да.
– Так сколько же времени звенит?!
– Все время.
– Что же с вами?
– Звенит.
– Теперь не звенит?
– Звенит.
– А теперь?
– Да.
– Что – да?! Не звенит?
– Нет.
– Звенит или не звенит?!
– Не знаю…
– Вы что, издеваетесь?!
– Что?!
– Нет, извините.
– Вы пьяны?
– Звенит.
– Вон! Во-о-о-он-н-н!
«Во-во-во… во-о-о!»
Звон-н-н.
Кирилл машинально спустился. Вышел. Шел по улице. Мутно и вдруг вырастали перед ним люди, дома, дома, люди. Качалась мостовая. Он был невесом.
И все звенело.
Вдруг он обратил внимание, что стоит. Он не знал, сколько времени он простоял перед домом. Было темно. Дом был Валиной сестры. Он не знал, почему остановился здесь.
Кирилл прошел в дом. Все было так же: тот же длинный коридор с дверьми отдельных комнат. Но все чужое. Вот и 18-й номер. Кирилл постучал – никто не отозвался. Дернул дверь – заперта. Нашарил за косяком ключ. Открыл. Не зажигая света, сел в кресло. Было тут такое очень старое и очень мягкое кресло. Он сразу утонул в нем по шею, спинка и бока кресла нежно его обняли. Очень хорошее кресло.
Так он сидел в темноте, сжавшись в кресле, и смотрел в окно, за которым качался фонарь. Смотрел на блики, бежавшие с левой стены на правую и обратно, с правой – на левую. И слушал звон. Звон нарастал, если к нему прислушиваться. Он дорастал до рева, заглушая все остальные звуки. Правда, остальных звуков было мало.
Тогда, когда звон уже был нестерпим, Кирилл начинал прислушиваться к собственным всхлипываниям. И тогда, постепенно, можно было слышать в основном всхлипы, а звон где-то далеко. Но почему-то, успокоившись, Кирилл снова начинал прислушиваться к звону, и звон рос, заглушая все.
Так он сидел обмякшим комочком в нежном кресле, в темной комнате, смотрел на блики, слушал звон и казался себе маленьким-маленьким. Так он сидел и пронзительно жалел себя.
Он жалел себя за то, что вот он такой маленький-маленький, а его что-то давит и давит, что его никто не любит, что он отовсюду выгнан и совсем-совсем одинок. Такой больной – он скоро умрет. А прислушавшись к звону – нет, сойдет с ума. Такой тихий-тихий сумасшедший…
Кирилл всхлипывал, слезы скатывались по щекам и стыли под подбородком. И поскольку они холодили, не хотелось двигаться. И он замирал, замирал. Слушал звон – плакал. Слушал, как стучит пульс во всем теле, – и плакал. Думал, какой он одинокий и никто его не любит, – и плакал.
Так он сидел долго и отходил понемногу.
Послышались шаги и шорох – шарили за косяком. «Валя…» – подумал Кирилл. И первым его порывом было вытереть слезы и подобраться.
Не найдя ключа, Валя толкнула дверь.
– Странно, – сказала она, входя в темную комнату.
Кирилла снова пронизала острая жалость к себе. Он шевельнулся, почувствовал мягкое прикосновение кресла и пожалел себя еще больше. И еще ему захотелось, чтобы его пожалели. Вытирать слезы он не стал, подбираться тоже. Так и сидел, утонув с головой в кресле, лицом к окну, спиной к двери, к Вале. Старался сделать красиво-страдальческое лицо. При этом почему-то в голову лезла картина, изображавшая св. Себастьяна, красивого юношу, пронзенного десятком стрел. Звона он уже не слышал.
– Странно, – сказала Валя и включила свет.
Свет ослепил Кирилла, ломил глаза.
– Выключи! Выключи! – крикнул Кирилл.
Валя, до сих пор его не заметившая, вскрикнула, а потом рассмеялась:
– Что ты там притаился?
И этот смех покоробил Кирилла. Как она может! Он так страдает – а она… Все, все такие жестокие, нечуткие!.. И ему стало еще жальче.
– Ты спишь? – сказала Валя и свет погасила.
– Нет, – неестественно скорбно сказал Кирилл.
Валя обошла кресло и остановилась перед ним.
– Что с тобой?..
– Я, наверно, умру, – сказал Кирилл.
Валины глаза привыкли к темноте, и блики иногда освещали его лицо, и она увидела в его глазах слезы.
Она встала перед креслом на колени и взяла его руку в свою. А Кирилл вспомнил, как рука его представлялась ему клешней, и снова заплакал. Заплакал еще и потому, что прикосновение Валиной руки было желанным и приятным, потому, что он ожидал этой ласки и жалости и где-то, внутренне, был в этой ласке уверен.
И он говорил, что умрет, что жить ему ни к чему, что все кончилось, что он неизлечимо болен, что ничего не понимает и никому не нужен, что его никто не любит, что он лишний, лишний…
А Валя слушала все это молча, не смеясь, и смотрела на Кирилла и держала его руку в своих.
И Кирилл чувствовал, что клешня его, неуклюжая, тяжелая, таяла в Валиных руках и становилась рукой.
Сам не замечая, Кирюша говорил вполголоса и даже шепотом, когда объяснял сестре, к кому он пришел, и сестра говорила, что нельзя, а Кирюша – что он узнавал, и уже можно, и сестра звонила по телефону и сказала, что да, действительно уже можно, но до того было долго нельзя, потому что больной был очень слаб, но теперь можно; она просто не знала, что уже можно. А когда Кирюша надел халат и, узнав, как пройти, стал подниматься по лестнице и потом шел по длинному коридору, у него была уже другая походка, другая фигура и даже другое лицо.
Больница была новая, по последнему слову. Много стекла и много белых стен. Тишины, чистоты, белизны и света – всего этого было очень много. И больше ничего не было. Не было видно и людей, а если и появлялась какая сестра, то прошмыгивала такой неслышной тенью, что трудно было представить, была ли она на самом деле или ее на самом деле не было.
Кирюша шел другой походкой по бесконечному коридору, мимо одинаковых дверей, отличавшихся только номерками вверху, и эта одинаковость делала коридор еще более бесконечным. Лицо у Кирюши было другим и от общей скованности и неестественности, незаметно начавшейся, как только он переступил порог больницы, и оттого, что он чего-то ждал. Это ожидание не было выражено конкретно в том-то и в том-то. Тут и то, что на работе Коля самый близкий ему человек, и то, что Коля спас его перед тем, как пострадал сам, и то, что Коля был долго плох, хотя теперь ему и лучше, и то, что Кирюша боялся увидеть, что Коля все-таки плох, и надеялся, что ничего, и то, что он боялся не увидеть, не узнать Колю сразу, как не узнал в свое время бабушку, когда навещал ее в больнице, и через неделю она умерла, и то, что последнее время Кирюша сам считал себя больным, потому что получил повестку и никак ему было не примириться с тем, что должен уехать от Вали, и, думая, что болезнь может быть выходом, он уже ощущал себя больным и думал о себе как о больном, – все это, неясное, неразделенное, невыраженное, было вместе и называлось ожиданием чего-то.
К тому же он думал о многом последние дни, и мотался, суетился и видел много людей, и сегодня было солнце, когда он шел сюда, и снег искрился, слепил, и синее-синее небо, и воздух, острый, кристальный…
Воздух в больнице был теплый, но в меру, чистый абсолютно, в меру сухой и влажный – целиком продуманный воздух. Индивидуальным был запах. Правда, он был значительно слабее, чем в других, более старых больницах, в которых бывал Кирюша. Этот чуть слышный лекарственный запах был тем тревожней и острее. Казалось, он то слышится, то нет.
Бесконечный коридор, словно шаг на месте мимо одной и той же двери, и только мелькают номерки на дверях, возрастая на единицу.
57.
Кирюша приоткрыл дверь, просунул голову. Увидел небольшую палату, такую же светлую, чистую и пустую, и в ней шесть коек. Койки ничем не отличались. Кирюша стал переходить взглядом от одной к другой и вдруг услышал свое имя. Это было так тихо, что можно было скорее угадать, чем услышать, но Кирюша уже подходил к одной из коек. Он подходил к ней и уже ясно видел что-то неестественное, громоздкое, распиравшее белоснежную простыню.
И Коли там не было.