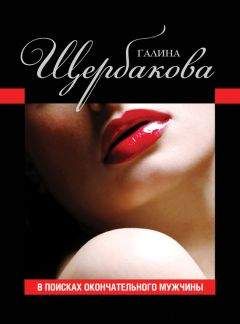– Не собираюсь, – ответил Панин. – В голову не беру.
– Надо брать, – вмешался Шпрехт. – Надо. Генуг – он всем генуг. У меня в одном пакете – мое. В другом – Варино. Она так сказала, а я понял: правильно. – Без перехода Шпрехт добавил: – Мы сегодня с ней стояли со стулом. Она так решила. Варя расходится обязательно, у нее характер – о-о!
– Место ему тоже хорошее дали, – продолжает смертную тему Сорока. – Рядом с Ваней Губенко. Правда, пришлось чуть сдвинуть оградку у Иванчука, но тот размахался на том свете, как какой-нибудь космонавт.
– Иванчук – выдающийся хирург, – возмутился Панин, – а Миняев ваш… Хватаете, где можете! Живое и мертвое! Когда же вы насытитесь?
Но Сорока сегодня не спорщик. Он думает о Миняеве. Как тот лежал в гробу. Хорошо выглядел, между прочим… Не скажешь, что труп…
– Я решил, – говорит Шпрехт, – кислород держать наготове, когда Варя начнет двигаться. Сила у нее, конечно, есть, но как бы слабость не победила.
– Ну и не экспериментируйте, – строго советует Панин. – Или давайте я приду, подстрахую, если что…
Шпрехт машет руками.
– Я тоже думаю, – вмешивается Сорока, – нечего вставать. Прилив может быть к голове… Зальет разум… Сейчас у Миняева вовсю поминки. Если б не такой случай, надо бы сходить… Я его помяну сам… Перед сном…
– Такое обстоятельство, – вздохнул Шпрехт, – что да…
– А как дела у вашего сына? – ни с того ни с сего спросил Панин.
– У нашего? – удивился Шпрехт. – Хорошо, слава Богу!
– Да не у вашего! – рассердился Панин. – Кто не знает вашего сына! Я вас спрашиваю, – громко обращается Панин к Сороке. – Вас!
– А чего тебе мой сын? – удивляется Сорока. – Я так думаю. Если у меня в жизни что-то было не того, то сынок – он все оправдал. Мой меня продвинул по природе.
– Это в каком же смысле? – спрашивает Панин. – Такого учения я еще не слышал…
– Ты много чего не слышал по причине своей глупости, – засмеялся Сорока. – А учение такое. Есть природа семьи – от и до бесконечности. И некоторые фигуры протягивают семью дальше по движению вверх. Вот твой сын розы сажает. Это не вредно. Можно сказать, полезно. А ты маркшейдер. Тоже полезно. Но это все-таки одна линия… Линия Паниных, скучная линия жизни… У Шпрехта, конечно, ситуация получше… Но не сравнить с сыном Сороки, который вперед и выше.
Сорока поднял лицо вверх, к звездам, и радостно загоготал своему счастью.
Сын Сороки, Толя Сорока, был доктором наук, завкафедрой института, мастером спорта по шахматам и плаванию, знатным преферансистом и первым кобельеро города Днепропетровска. Он был умен, весел, бесшабашен, он умел все руками так же, как головой, у него была жена красавица-еврейка (трудное место для радости Сороки), но если теория, придуманная Сорокой-старшим о продвижении в природе, имела под собой какие-никакие основания, то Толик Сорока род свой подвинул, точно. Вперед и выше.
Тут и так хочется сказать, что незнание первоисточников жизни значительно лучше знания.
– Дети у нас слава Богу, – сказал Шпрехт. – По нашему времени, когда такая кругом пьянь… Взять хотя бы сына Миняева… Я тут ему подал возле булочной. Прямо весь синий, аж дрожит…
– Это ж не его сын! – закричал Сорока. – Не его! Он же свою взял с дитем. А это ж дело небезопасное – чужой корень.
– Я, например, Жанночку очень люблю, – сказал Шпрехт. – Она мне своя, как и сын.
– Это брехня, – ответил Сорока. – Так не бывает, чтоб чужое любил, как свое…
– Если любишь женщину, – сказал Панин, – будешь любить и ее плод.
– Я бы не смог! – Сорока взмахнул рукой, как отрезал. – Вы оба брали женщин, и уже немолодых, а я взял девушку. Нецелованную и нелапанную. Какая ж крепкая у нее была девственность! Прямо броня. Когда с этим столкнешься, особое чувство возникает.
Шпрехт хихикнул с непристойным оттенком.
– Я не желаю, – сказал Панин, – участвовать в этом разговоре. – И он ушел, худой, гордый старик, и смолоду не умевший говорить на эти темы.
– Зануда! – сказал ему вслед Сорока. – Зануда!
– Он, наверное, – ответил Шпрехт, – из баптистов. Но скрывает.
– А кого это сейчас колышет? – спросил Сорока.
– И то верно, – согласился Шпрехт. – Миняев уже умер…
Вчера ветер дул из Африки, окна были открыты, и Зинаида слышала, как Людка-соседка дважды прокричала: «Сорока! Сорока!»
«Поздно до тебя дошло, дура», – думала она. Конечно, может, крик безумной и не имел никакого отношения к рождению Толика, а просто так – крик соседской ненависти, но и другое тоже ведь может быть!
…Она помнит, Толичек уже был студентом, приехал на каникулы и шел с автобуса. Солнце ему было в спину, и он шел как позолоченный. Она ждала его у калитки и увидела: идет ее золотко.
А у другой калитки стояла Людка Панина, тоже сына ждала, из школы.
И вот Толик приближается, приближается, и ничего нельзя изменить: идет копия его отца. У нее тогда сердце – тук, тук, тук… Сейчас, думает, все со мной и произойдет. В смысле – смерть. Она первый раз почувствовала, как огнем горячим распирает ей нос и идут, идут толчки в голову. Пока Толя дошел, она уже чуток успокоилась. Не потому, что Людка ничего не скумекала, а потому, что вдруг поняла: ничего она не боится. Ничего. Даже если явится физик и его скособочит у всех на глазах или не скособочит… Неважно. Толик-золотце – уже есть! Он умница и красавец, и пусть зайдется в припадке и Сорока (жалко, конечно, будет, он ей муж хороший, лучше не надо), но никакие чувства-перечувства ни его, ни Людки, ни физика не могут изменить то, что Толик случился, а ведь могло его и не быть. Вот ведь ужас-то был бы! А он есть! Есть! Как же умно, как будто знала, что по улице потом – потом! – будет идти золотко, она повела себя в кладовке. Ей тогда указала путь жалость – совсем неплохое чувство. Хотя учили ее наоборот. Не жалеть, чтобы как бы не унижать. Все равно что не мыться, чтоб быть чистым. Одним словом – глупость.
Никто не признал в Толечке сына физика, хотя он ходил в ту же школу, где была та самая кладовка. А бывшая, неумелая в простом деле любви жена жила просто напротив Сорок и вязала на шею банты сыну маркшейдера Панина и никого и ничего кроме вокруг не видела. Зине интересно было смотреть на маркшейдера, который оказался вроде бы ловчее физика и научил-таки эту плотвичку-географичку совершать дела природные. Даже совершили мальчика. Да живите и здравствуйте, интеллигенция! Не жалко. Золотко-то досталось мне…
Чего ж она, Людка, кричала вчера ночью? А если все-таки дура сложила два и два?
Зинаида как бы смеется. Получается ведь что… Выплывь все наружу, она, Зинаида, все равно для них недосягаема. Она на своем щите в неподвижности, как в каменном замке. Ну, придут ее спрашивать-допрашивать? (Хотя кто? Ну, скажем, Сорока.) Ну и?.. В жизни без движения и звука есть своя сила. Слабость – это по поверхности. Поэтому хрен ты меня возьмешь, Сорока, если Людка откроет тебе глаза. Хрен! Да и зачем тебе меня брать? Твоя тайна, Сорока, страшней моей…
Сорока с холодными от мытья руками и ногами умащивается рядом.
– М-м-м, – мычит Зинаида.
– Ах я, дурак! – спохватывается Сорока. – Я ж тебя не пописал! Это, Зиночка, оттого, что я выпил. Помянул Миняева. Все-таки столько лет плечом к плечу. Вот умница, хорошо справилась! Ты молодец, Зинка моя, молодец. Дай Бог тебе здоровья. Между прочим, Шпрехт сегодня ставил на ноги свою Варвару с упором на стул. Я не одобряю. Панин предложил себя для страховки. Против падения. А я считаю, может случиться прилив… Но ты же знаешь, Шпрехт слова своего не имеет, что ему Варька скажет, то ему и правильно. А она всегда была на месте не сидячая. Тыр-пыр… Не обстоятельная женщина. Ну вот и все… Я ложусь тоже… Раньше до кладбища было дойти – раз плюнуть, а тут чего-то устал. Спи, Зина, спи… И я буду…
Варя лежит, сжав в кулаке пепельницу. Когда она сегодня встала на свои никудышние ноги и поняла, как жалко они дрожат, как готовы обломиться и уронить ее оземь, она успела одно – подвинуть к себе пепельницу. Шпрехт кудахтал вокруг и маневра не заметил. Потом она сунула пепельницу под подушку.
Когда уже легла, когда прыгающее сердце вернулось в привычную скорость, она подумала, что у трофея под подушкой цели нет. Зачем спрятала?
Затем, что рано или поздно, а полетит пепельница в Шпрехта. В кого же еще?
Варе жалко Шпрехта. Как он за ней ходит! Но она знает: внутри ее живет какой-то зверь, у которого свое расписание выходов в свет. И ей с ним не совладать! В какой-то из дней она просыпалась с чувством всепоглощающей ненависти, которое причудливо концентрировалось в Шпрехте. И ее как ветром несло… Хорошо, если ненависть прикидывалась ревнивицей – это был легкий вариант. Но Варя, думая о себе-звере, знала, что в один прекрасный от яркости последствий день он подожжет шторы и они полыхнут так, что чертям станет тошно. Или набросит на шею Шпрехта галстук, который давно заныкан под матрацем, и дойдет до радости убийства, а потом положит Шпрехта рядом и запалит одеяло. Варя не боялась всего этого, ничуть, и дурным это не считала. Ибо не считала себя ответственной за это живущее в ней Нечто. Более того… Более… Втайне Варя любила эту свою ненависть, эту неистовую жажду разрушения. «Я умру, а он, они, все живи?» – гневно спрашивала она себя. Когда Жанна однажды на это сказала (проговорилась ей Варя, проговорилась), что нечего Бога гневить, не так уж мало пожила… Сколько, она думает, было Лермонтову? Варя твердо решила: спалю все сегодня. Ее затвердевший, казалось, без света глаз, в котором было столько силы, но не было жизни, напугал Жанну, и она закричала: «Мамочка! Мама!» – и вернула Варю из дьявольских пределов, где она ходит босиком по огню, где по ее спине плещется черная нечесаная грива, а во рту вкус крови и соли.