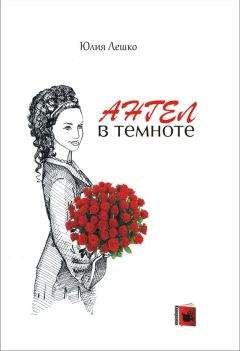И тут вернулись из магазина Сережа и Женька. Сережа посмотрел на нас и понял, что я все знаю. Вздохнул, помог раздеться своей маленькой подружке, сказал:
– Иди-ка поиграй с Баськой, я покурю.
– Курить некрасиво, – заявила мелкая Женька.
– Не может быть. Это у вас в садике так считают? – грустновато пошутил Сережа.
– Так мама говорит, – не унималась девчонка.
– Если мама, тогда согласен, – но все равно пошел на лестничную площадку.
Постояв между нами, повертев головкой, глядя то на меня, то на Женьку, моя, в общем-то, смышленая дочь чинно удалилась с кухни.
– Ася, без завещания все-таки не обойтись.
– Послушай, меня совершенно не волнуют имущественные вопросы!
– Не поверишь, меня тоже. Но я не тебе хочу кое-что оставить, а Женьке.
Я уже рыдала, не скрываясь. В соседней комнате громко играла музыка – моя Женька ловко управлялась с аппаратурой…
– Я оставила деньги под пароль на предъявителя. В этом году ты их, конечно, не снимешь. Позже, когда поймешь, что уже можешь…
Я даже плакать перестала.
– Женя, что ты такое говоришь? Какой пароль, какие деньги? Так и вижу себя, бегущую снимать твои проценты!
– Пароль простой…
Женька тяжело вздохнула, будто ей не хватает воздуха. Вот сейчас было особенно видно, что она больна. И все же Женька не была бы Женькой!..
– Попробуй отгадать!
– Тройка, семерка, туз… – полусмеясь, полуплача выговорила я.
– Нет. Не отгадала.
Женька отошла к окну, долго-долго смотрела в сгущающиеся сумерки.
– Сережа.
Она произнесла это так тихо, так нежно, как будто позвала. Я кинулась к ней, обняла за плечи, она, такая маленькая, спрятала у меня голову на груди…
А он как будто услышал этот тихий голос, вошел на кухню. Господи, неужели у него и раньше были такие седые виски?
* * *
Женьки не стало через несколько месяцев.
Незадолго до этого она еще несколько раз звонила мне, но ни разу не пригласила приехать.
– Не хочу, чтобы ты меня видела такой.
– Какой, Женька?
– Я похожа на гербарий.
– Все шутишь…
– Может, потому еще и жива?…
Болезнь, конечно, давала о себе знать. Прежней веселости, казалось, неистребимой, уже не было. Но и обозлиться на весь свет из-за несправедливости, которая приключилась именно с ней, Женька не смогла.
Однажды позвонила на работу.
– Знаю, что ты не позволишь себе плакать на работе, потому и звоню…
– Плевать я ни на кого не хотела.
– Какая ты грубая бываешь, неженственная. Ася, я не хочу, чтобы ты приезжала, ну, потом, когда…
– Женя, разве это можно обсуждать вот так?!
– Я что, напоминаю тебе Берлиоза?
– Какого еще Берлиоза?!!
Она смеется. Смейся, Женька, посмейся еще…
– Да из «Мастера и Маргариты», ты что, не помнишь?… После того памятного разговора о «завещании» она больше ни разу не заговаривала о моей личной жизни, не давала советов, вообще ни о чем не спрашивала. Да и могло ли быть по-другому? Ведь все было и так ясно. Тогда, в феврале, я сама призналась ей во всем. Разве нужно было что-то объяснять своему… почти отражению? Ее «завещание», в общем-то, было написано прямо под мою диктовку…
Чувствовала ли она, что в моей любви к ее мужу не было ни тени предательства по отношению к ней? Наверное, да.
Иначе… Да все было бы иначе.
* * *
Сережа не позвонил мне, но прислал телеграмму. Я аккуратно свернула ее и спрятала далеко-далеко, в толстый том Паустовского.
Слез не было. Я еще ничего не осознала до конца, но знала, что буду делать дальше. Я сначала поеду к Ксении, потом поставлю свечку в Спасе на Крови, закажу сорокоуст. Вечером посмотрю наши фотографии. А потом крепко-крепко обниму свою Женьку и попробую заснуть.
Я больше никогда не приеду в Минск. Я буду врать себе, что она жива, мы просто не можем встретиться – другой город, двенадцать часов поездом…
* * *
Еще год прошел незаметно. Когда в доме не по дням, а по часам растет непоседливая, своенравная девчонка, время летит стрелой.
Вот и Новый год наступает… В комнате светло от солнца, от снега за окном. Елку мы с Женькой наряжаем уже два дня – не спешим, растягиваем удовольствие. Но сего дня – 31 декабря, а нам еще надо приготовить подарки деду с бабушкой, Женькиным детсадовским подружкам.
– Что это, мама?
– Это бабушке кофточка. Нравится?
– Не очень. Колючая.
– Неженка ты какая! Это верблюжья шерсть, между прочим.
– А это что?
– А это – деду комплект спортивный. Пусть на лыжах ходит.
Задумалось мое «солнце». Перебирает вещички – то шапочку, то варежки потрогает.
– Мама, дай мне шарфик!
– Зачем он тебе, он мужской.
– Подарок подарю.
– Кому, Женька? Неужели папе? Папа далеко, пусть ему Санта Клаус дарит.
– Я знаю. Не папе.
– Кому тогда?
Пауза. «О, этот чистый взгляд…»
– Сереже.
– С которым на утреннике танцуешь?
– Ты что, забыла: в Минске Сережа…
«Господи, только бы не зареветь!»
Когда в дверь позвонили, ничего во мне не дрогнуло: маме самое время придти.
– Бабушка, бабушка! – заскакала моя егоза.
– Деда Мороза вызывали? – на пороге стоял Сережа. В дубленке, но без шарфа!
Женька первая бросилась ему на шею, а я не могла пошевелиться.
– Женька, как я соскучился! – сказал мой любимый, глядя мне в глаза.
Девчонка прыгала, не унималась:
– Сережа, Сережа приехал!
– Осторожно, Женька, тут игрушки…
Первое, что я увидела, открыв коробку, – был сверкающий красный шарик. Очень красивый, очень хрупкий…
«У нее были очень красивые глаза и губы». В который раз он подумал так о женщине, сидевшей за крайним столиком у окна. Самое интересное, что эта фраза в его воображении возникала как… будущее воспоминание о незнакомке. «Вот, – думал он, – вернусь в Минск и буду вспоминать, что у нее были очень красивые глаза и губы. Не когда-то были, а именно сейчас, вот этой ранней зимой, в этом маленьком лесном санатории, собравшем под своей крышей всего на несколько дней всего несколько десятков отдыхающих…»
* * *
А у нее и в самом деле всегда были очень красивые карие глаза и полные, четкого рисунка, темно-розовые губы. И в юности, и в молодости, и потом, и теперь. Что-то, конечно, перестало быть красивым, что-то – просто не было очевидным, а вот эта красота – осталась.
Она нечасто задумывалась о своей красоте: всегда были мысли поважнее и заботы посерьезнее. Так, иногда… когда смотрела на взрослую дочь, так много и так мало унаследовавшую от нее. Когда смотрела в зеркало, думалось почему-то совсем о другом.
Она давно заметила, что человек, сидящий за столиком в компании немолодой супружеской пары и дамы (именно дамы…) неопределенного возраста украдкой наблюдает за ней. С привычной иронией отметила для себя его интерес и тут же, про себя, откомментировала: «Акела промахнулся», хотя мужчина шифровался, как боец невидимого фронта, и, кроме осторожных скользящих взглядов, ничем свое внимание к ней не выдавал.
Послеобеденные прогулки по лесу сразу стали для нее приятной привычкой. В отличие от большинства женщин, предпочитавших гулять парами и при этом болтать без умолку, она всегда гуляла одна. Думала обо всем и ни о чем, погружалась в воспоминания, копила впечатления, даже немножко заочно делилась мыслями с теми, кто ее ждал в Минске.
Доходила до конца широкой тропки-аллеи, поднимала голову и смотрела на невысокую, но раскидистую сосну, выросшую на этой дорожке. Люди протоптали две окружные, вокруг кряжистого ствола, тропинки, и путь продолжался дальше, дальше… Где-то там, минутах в двадцати ходьбы, было лесное озеро. Она не ходила туда: уж очень ей понравилась сосна, ее пышные тяжелые ветки, в каком-то приветственном жесте широко раскинутые навстречу идущим. Одна из ветвей кроны вообще походила на поднятую руку с растопыренными пушистыми пальцами: «Привет!.. Пока!..»
Ночью выпал снег. Она открыла глаза в уже привычный для нее «час волка» – бессонница, не отпускающая даже на отдыхе… Она вздохнула: все, теперь с трех до шести, как по расписанию, она не сомкнет глаз. И тут же заметила: за окном было непривычно светло для этого времени суток. «Снег», – поняла она и, кажется, даже почувствовала свежий уличный морозный воздух. И какая-то детская, запрыгавшая в груди радость заставила ее вздохнуть глубоко-глубоко. Спустя несколько минут она спала, ровно дыша, с немного приподнятыми уголками губ, которые так понравились седеющему сыну Сирано де Бержерака и миссис Хиггинс, как она про себя окрестила внимательного мужчину за соседним столиком.
Ее любимую ветку тоже укутало снегом, и теперь она уже не была такой приподнятой – ни по расположению, ни по настроению. Снег продолжал падать, и ветка почти на глазах провисала все ниже, ниже.
«Что за дурацкая привычка – всему придавать значение, везде искать знаки? Это просто дерево, просто ветка, просто снег, а уж никак не символ моей жизни… Мне вовсе не тяжелее, чем всем остальным, и моя ноша – это груз, который несут все мои ровесницы. Хватит, все нормально. А будет… да прекрасно все будет! Однажды…»