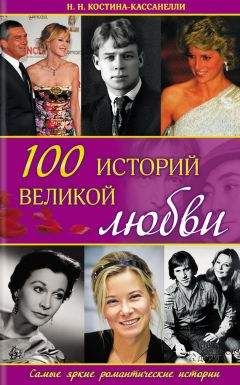– Давай передохнем… осмотримся, – распорядился я. Питерский, похоже, легко согласился быть ведомым: он, не возражая и тяжело дыша, тут же повалился на землю.
Что здесь было до того, как постройку накрыло «Градами»? Баня? Водокачка? База отдыха с собственной водонапорной башней?
– Бронебойными, кажись, бьют! – испуганно прислушиваясь, сказал питерский. – Я их по звуку различаю! Я музыкант… был.
– Актер, – представился я хмуро. – Тоже… был.
Мы лежали на возвышенности, изрядно оторвавшись от основной группы условно атакующих условный блокпост. Наверное, мы с питерским с самого начала побежали не туда и теперь не попадем в кадр. «Ну, оно и к лучшему, – подумал я. – А то вдруг мамане придет в голову новости посмотреть, а тут вот он я. В полной красе. Хотя узнать меня в чужой форме, да еще и в балаклаве – задача не из простых. Но мамы, – я вдруг улыбнулся неизвестно чему, – они ведь такие!»
Над блокпостом ветер рвал наш, российский триколор, а с поля к нему бежали, размахивая оружием, атакующие. Залп! Споткнулся, как бы налетев на невидимую стену, первый нападавший и рухнул в траву. За ним упал еще один, и еще… Провыли мины – просто над нашими головами, взметнулась ввысь земля и трава совсем неподалеку. У меня заложило уши, но я все равно услышал, нет, скорее даже увидел, как, нелепо разевая рот, заорал питерский:
– Что они делают?! Что они делают?! По нашим бьют!
Он вдруг встал во весь рост и ринулся вниз – туда, в кровавое месиво из людей, железа, машин, методично превращаемых в решето бронебойными…
– Нет! – орал он и размахивал тощими руками музыканта, мальчика из приличной семьи, фанатично верившего, что добро всегда побеждает зло. Как в сказках, которые и мне, и ему в детстве читала мама. – Нет!!! Не надо!
Я уткнулся носом в битый кирпич, а когда поднял голову, все уже было кончено. Из блокпоста вырвалась наружу толпа людей, рукава которых были перевязаны оранжево-черными лентами, и ринулась к тем, которые еще корчились в траве. Мне хотелось выть, кричать, как только что надсаживался питерский: «Нет, нет, нет!!!» Но я не побежал. Я изо всех сил вжался в груду известки, через которую уже успели прорасти метровые прутья какой-то сорной травы, и молил кого-то там, наверху – того самого, который видел все, но ни во что не вмешивался, – чтобы меня не нашли. Не досчитались. Чтобы ДОБРО победило ДОБРО, минуя меня.
Я шевельнулся, и тут же совсем рядом зачмокали пули. Брызнул кирпич, метя в глаза, забарабанил сверху по балаклаве. «Черт, даже каску не дали… как же так? Зачем они так с нами?» Первый шок прошел, и заработал инстинкт самосохранения: я стал пятиться, осторожно сползая с просматриваемого места. Я двигался так, как будто всю жизнь только тем и занимался, что пытался спрятаться, укрыться, выжить…
В двух шагах от меня возвышалась та самая водонапорная башня: только бы доползти… Руку вдруг дернуло, и она как-то странно онемела. Я не чувствовал боли, хотя краем глаза видел, как намокает рукав… но мне было не до того. Нужно было втянуться в спасительную тень башни, прижаться к ее сквозящей дырами обшивке… Это лучше, чем ничего, лучше, чем поле, чем насквозь просматриваемый, иссушенный августовским солнцем бурьян. С другой стороны сооружения оказалась лестница – и я устремился вверх, как загнанный заяц… но зайцы не побегут по лестнице… Хотя что я знаю о зайцах?
В огромный резервуар башни – почти такой же, в каком в «Белом солнце пустыни» укрывались жены Абдуллы и товарищ Сухов, – наверняка вела еще одна лестница. «Почему мне в голову лезут какие-то идиотские зайцы, жены Абдуллы? Зачем я так упрямо карабкаюсь вверх, не думая ни о чем, просто как загнанная в ловушку крыса? Я не полезу внутрь… просто потому что не смогу открыть огромную, приржавевшую крышку – только в кино это делается легко и просто. И еще – там наверняка вода. Что лучше – быть пристреленным своими же или утонуть в затхлой воде брошенной водокачки?»
Никакой воды наверху не было. Местные умельцы уже успели располосовать бак автогеном. Я, словно в открытую дверь, ввалился в дыру, высотой в мой собственный рост, рухнул на пол и откатился к раскаленной на солнце внутренней стенке.
Аня
– Аня, мы не можем вечно держать его так…
Я прекрасно поняла это «так». Значит, того, к кому рвалось мое сердце, кто стал для меня всем – светом в окошке, весной в сердце, воздухом, которым я дышу, – собираются отключить от аппаратуры жизнеобеспечения. И для него кончится все: и воздух, и жизнь, и сегодняшнее начало бабьего лета, с его пронзительной синевой небес, летающими крохотными паутинками, золотом кленовой листвы… Всего этого он уже не увидит. Как не узнает и того, что я боролась за него все это время. Приходила сначала в свою смену, а потом и каждый день. Разговаривала. Делала массажи. Выдавливала апельсиновый сок и вливала ему по капле, надеясь, что яркий вкус пробудит в нем что-то… и возникнут какие-то новые связи взамен разрушенных. Какие-то заевшие колесики встанут на место, где-то щелкнет, и часы его жизни вновь пойдут, как ни в чем не бывало. Но этого не случилось. Что-то застряло намертво.
Я сидела на краешке стула, съежившись и опустив голову. Что я могла возразить? Внезапно внутри меня пузырьками вскипела злость: нет, не на главного… это проклятая война отняла его у меня – его, живого! Уже почти здорового, с зажившими ранами от осколков, сросшимися костями, восстановившейся, затянувшейся кожей… И он никогда не узнает, какого цвета у меня глаза, и что я так и не постриглась, и за это время волосы у меня успели отрасти чуть ли не до плеч. Мне приходится завязывать смешной куцый хвостик, но я из какого-то суеверия так и не пошла в парикмахерскую. Совсем как беременная женщина… говорят, беременным нельзя стричься, пока не родится ребенок. Я так долго ждала его второго рождения! Говорила себе: «Завтра он очнется, и я сделаю красивую прическу». У него теперь тоже волосы, и бородка с усами… и в своем коматозном спокойствии он чем-то похож на спящего Христа. Я не помню – изображал ли кто-нибудь спящего Христа или нет, но он, этот парень, имени которого мы, возможно, так никогда и не узнаем, несомненно, терпел те же муки на кресте этой войны…
– Да, я понимаю. Но он же практически здоров! И потом – как мы можем отключить его без согласия родных?
– Возможно, он сирота. Поэтому никто и не ищет.
– Давайте подождем еще немного, – упрямо попросила я. – Я знаю, он справится!
Заведующий вздохнул и поморщился так, как будто у него внезапно заболел зуб.
– Анечка, я знаю, что для тебя этот мальчик – особенный. Первый больной, которого ты вытащила ОТТУДА. Я сам через это прошел. Но… он уже не вернется. Я вижу. Рефлексы понемногу угасают, сосудистый тонус и температура тоже падают… возможно, ты не заметила – что такое какие-то десятые градуса! – но тенденция не обнадеживающая, поверь моему опыту. И потом, самое главное: мы не знаем, что творится у него в мозгу. Я не хочу тебя пугать, но, возможно, кислородное голодание во время клинической смерти все же сделало свое дело. Ты сама знаешь, насколько уязвимы нервные связи и клетки мозга. Скорее всего, пострадали не только верхние отделы, но и подкорка. Надеюсь, ты понимаешь, что это такое…
– Нет! Пожалуйста! Только одну неделю! Я очень прошу!
– Ну, хорошо… неделю, и ни днем дольше.
Я вышла из кабинета и поплелась по стерильному коридору отделения, шмыгая носом и глотая слезы. Но что толку плакать? Слезы – это последнее, что может помочь! При нем я НИКОГДА не плакала. Мне казалось, что если бы я заплакала, то этим подписала бы ему окончательный приговор. Я разговаривала с ним, читала стихи, рассказывала анекдоты, даже пела, хотя ни слухом, ни голосом природа меня не одарила. Я приносила ему ноутбук со своими любимыми фильмами. Я светила фонариком ему в глаза, посылая азбукой Морзе сигнал SOS. Я колола его пальцы иголкой. Я щекотала его лицо перышком, подобранным утром в парке. Я подносила к его носу цветы, фрукты, нашатырь, лак для ногтей, ватку, смоченную бензином, стараясь вызвать у него хоть какие-то ассоциации. А сколько я прочла за это время разной литературы! Я с уверенностью могла сказать, что знала о коме все… и почти ничего. Я, как и те, кто наблюдал коматозных больных в течение всей своей врачебной карьеры, не могла спрогнозировать, выйдет ли тот, о котором я сейчас думала, из полусна-полусмерти или же так и останется там навечно – там, в черных глубинах, без света, тепла, речи… где проплывают неясные мыслеобразы, совсем как рыбы, живущие в океане ниже тех уровней, куда пробивается солнце.
Я рванула на себя дверь ординаторской, прося лишь об одном: чтобы там никого не было. Однако в этот день меня, похоже, никто не слышал… да и кто, собственно, я такая, чтобы мои просьбы выполнялись? Я протиснулась в свой угол и раскрыла ноутбук. Ну давай же, грузись… грузись! Я не понимала, что хочу найти в Инете, зачем снова открываю все те же медицинские сайты, которые уже излазила вдоль и поперек. Я пялюсь в расплывающиеся перед глазами строчки в надежде увидеть нечто фантастическое, например «недавно найдено новое лекарство, которое в течение часа выводит из комы даже самых безнадежных больных» или «старые добрые горчичники показали себя с совершенно неожиданной стороны – если их поставить больному, находящемуся в коме, он в течение десяти минут придет в себя»…