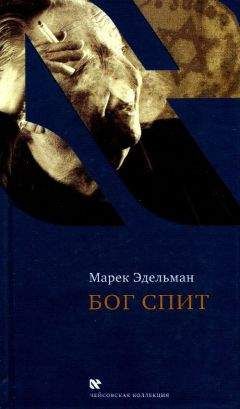Это яблоко он не съел, положил в карман. Он оставит его потом на подоконнике на вокзале, в зале ожидания. Вадя имел такую привычку: оставлять что-нибудь съестное в аккуратном месте – так он делился. С кем? Не то с людьми, не то с Богом, – он не понимал, но делился, по закону.
И тут появилась Надя. Эта яблоня была ее добычей. По утрам она приходила к ней, брала из-под нее отборные плоды и несла на базар.
Надя подбежала к нему и толкнула. Он завалился на бок. Тогда она опустилась на колени и проворно поползла, подбирая в густой мокрой траве плоды, запястьем смазывая с них слизней, складывая в кучки.
Ваде за ней было не угнаться, он подсел к одной из кучек и стал выбирать оттуда помягче, по зубам. Надя подползла, похлопала его по плечу:
– Трутень. Ты трутень, – и засмеялась.
В Питере они продали два мешка яблок.
На электричках подались в Москву.
Надя была почти немой. Ей настолько трудно было выразить свою душу, что, страдая, всё сильнее сжимая челюсти, она вдруг начинала жестикулировать: то ли показывая, то ли собираясь вколотить в собеседника то, что для нее самой так ясно, остро. Случалось, что Ваде и вправду попадало, и было больно всерьез. Надя, только еще больше расстроившись, отбегала, тяжело дышала, переминалась на месте, словно собираясь куда-то быстро идти, – и вдруг останавливалась, взмахивала рукой, сжимая и разжимая пальцы.
Стезей, на которой он стоял и через которую Вадя невольно обрел сердце Нади, была его любовь к Высоцкому и Цою. Почти все песни первого («Семеныча», так Вадя по-свойски именовал поэта) он знал с детства, по магнитофонным записям, которые слушал с пацанами, прижимая плечом портативную «Весну». Творчество второго озарило его пэтэушную юность.
Песни Высоцкого Вадя не пел, а мычал. Мычал он их и в плену, и когда стал ходить с Надей. Особенно с ней. Делал это редко, стесняясь. В парке, на вокзале уходил куда-нибудь подальше, за кусты, на дальний конец перрона, и там, будто камлая, начинал просто мычать, без мотива, и потом распевался, его густой баритон набирал силу, глубину, вырисовывалась даже не мелодия, а речитативный рисунок, совсем не похожий на известную песню, но вдруг представляющий ее с иной стороны, по-иному раскрывая ее пронзительно драматическую суть, словно бы обнажая смысл слов, теперь лишенных мелодической смазки.
Удивительно, как неумелое исполнительское участие Вади превращалось в режиссерское соучастие в этой песне, – и Надя ценила это и слушала с открытым ртом.
А послушав, хлопала его по спине:
– Артист!
Но он не сразу подпускал ее близко к себе, никогда не пел на заказ, по просьбе, – всегда махал рукой, сердился, прикрикивал на нее и, стыдясь – или священнодействуя, – уходил поодаль размычаться. И только потом, когда сам погружался в медитативное распевание сильных слов поэта, терял бдительность и, прикрыв глаза, садился, – она подбиралась к нему и замирала от восторга. «Парус! Порвали парус!», например, пелся Вадей почти по слогам, с неожиданными эскападами, и непонятно, как у него хватало на это дыхания.
А вот песни Цоя он никогда не пел, ни разу. Зато они часто приходили послушать их к Стене Цоя на Старом Арбате. У этой исписанной «поминальными памятками» кирпичной стены собиралась бродячая молодежь чуть ли не со всей страны. Ребята были незлые, иные даже вдохновенные. Всегда имелся шанс, что нальют, – только если не наглеть, а услужить, подружиться.
Летом у Стены было веселее – со всей страны народ перебирался на юг, к морю, выбирая Москву перевалочным пунктом. В каникулярный сезон «народ Цоя» большей частью пропадал в Крыму, где на татарских базарах они бряцали на гитаре под ногами отдыхающих, потрясая в такт железными кружками с мелочью. Какая душевная метель мотала этих ребят по городам, автостопом – из Уфы в Питер, из Питера в Москву, из Москвы в Новосиб, – было неясно. Вадя не задумывался об этом. Так человек никогда не задумывается о частях своего тела как о посторонних предметах. В его представлении вся страна куда-то ехала и разбредалась, брела – и только Москва пухла недвижимостью, чем-то могучим и враждебно потусторонним Природе, о которой он тоже ничего не знал, но когда задумывался, то о ней почему-то было складнее и потому приятнее думать, чем о людях.
Было немало таких ребят, что подвисали на Арбате с гитарами и ежедневным портвейном на несколько недель, месяцев, обретаясь по ночам в одной из многочисленных опустевших квартир в центре города, в домах, подлежавших капитальному ремонту. В ту пору едва ли не целые улицы – Пятницкая, Остоженка, Цветной бульвар и окрестности – стояли выселенными. Власти города никак не могли найти денег на реконструкцию. Покинувшие их жильцы забрали с собой не всю мебель, не всю утварь. И кое-где оставили целыми замки с торчащими в них ключами от рушащегося будущего.
Надя и Вадя сначала обосновались в бывшем общежитии МВД неподалеку от Цветного бульвара. Это было здание постройки XIX века – длинное, волнами просевшее там и тут по всей длине, как-то даже изогнувшееся. Будучи в начале века дешевой гостиницей «Мадрид», здание имело унылую коридорную систему. Длиннющий без-оконный туннель шел, кривясь и заворачивая, больше сотни метров, он был освещен только тремя тусклыми лампочками, от одной из которых почти не было толку, так как она пропадала за поворотом. За него Наде жутко было повернуть – и она таскала с собой Вадю всякий раз, когда шла в туалет. В нескольких местах при свете спички, как в облаках – в разрывах облупившейся многослойной покраски, – можно было увидеть роспись. Видна была лубочная глазастая испанка с веером. Неподалеку, в другом провале, можно было разглядеть переднюю часть быка, завалившего набок морду с бешеным бордовым глазом. Изучая стены коридора, Надя сожгла коробок спичек. Она сумела щепкой извлечь из-под штукатурки испанку – и обнаружить красные тупоносые туфли на толстых каблуках под кипенными оборками, которые были видны из-под лиловой траурной юбки.
Во многих комнатах лежали горы строительного мусора, через которые было сложно (приближаясь вплотную к потолку – и пригибаясь) перебираться к окну, – на широком подоконнике они умудрялись спать валетом.
Много разного люда обитало в этих руинах. Все они были разобщены – и в нефтяном сумраке коридора, настороженно минуя друг друга, напоминали призраков. Случалось, Надю пугала фигура, отделившаяся от стены, или – так и оставшаяся неподвижной, или когда вдруг ближайшая дверь распахивалась от удара, слышался возглас – и оттуда, судорожно захлопывая за собой проем, открывший хлам, нагое тело, вздевал над грудью локти, выбегал аккуратно одетый юноша, с белыми зрачками и перевернутым лицом…
Потом они перебрались на Петровский бульвар.
Коммуна художников с бешеными от счастья глазами, с которыми Вадя и Надя делили лестничную площадку, дала им прозвище Слоники. Они и не догадывались, отчего это произошло. Видимо, в подвижном представлении художников они не ходили, а слонялись.
Потолок в местах, где обваливалась штукатурка, был завешен маскировочной сеткой. Скромно, сторонясь всех, Надя садилась в самом темном углу. Сутки напролет неприметно сидела тихой мышью, прикрывая ладонью блеск глаз. То улыбалась от смущения, то жгуче краснела от внезапного стыда.
Куски штукатурки падали в провисавшую сетку. Тонкая девица в длинном черном платье, сидевшая на подоконнике с альбомом в руках, вздрагивала. Надя восхищенно рассматривала ее текучую фигуру, руки, ниспадавшие на бедра, мечтала о том, что́ раскрывают в себе страницы ее незримой книги, – и вдруг бросалась сметать рукой с дивана крошки штукатурки, садилась снова в угол. И снова скрипели мелованные страницы.
А то вдруг в квартиру влетала девушка и, схватив одной рукой художника Беню за рукав, другой судорожно рылась в спадавшей с колена сумочке, ища сигареты, и косилась на Надю.
Но Беня успокаивал:
– Это ничего, это свои ребята, хорошие.
После чего, хмыкнув, девушка чиркала спичкой и выпаливала:
– Куйбышев на «винт» сел! – и тут же, пыхтя, окутывалась спорыми клубами дыма.
Беня – рыжий парень с лицом убийцы – качал головой и уходил в другую комнату. Он шел дальше вырезать коллажи – бешено расхаживая, бросаясь вдоль стены, прикладывая тут и там лоскуты на пробу контраста. Он кроил их из цветной бумаги, журнальных иллюстраций, этикеток, кусков материи, пингвиньих и гагачьих перьев, бересты, картона, осиных гнезд. На пестрых просторных пучках и букетах коллажей кружились ракеты и космонавты, дома и церкви, трактора и башни, поля и небо, рыбы и люди, цветы и бесы.
Надя любила наблюдать за Беней, чье занятие так ей было понятно. Она отлично помнила, как в детстве соседка по парте гремела ножницами, разрезая бархатную бумагу…
Вадя не любил торчать у художников. Он приходил в конце дня и заставал Надю за чаем, которым ее всегда угощал Беня. Чаю с сушками перепадало и Ваде. Малахольный Беня ставил перед ним чашку, громадно склонялся к его приземистой большеголовой фигуре и, заглядывая в неуловимые глаза, страшно спрашивал: