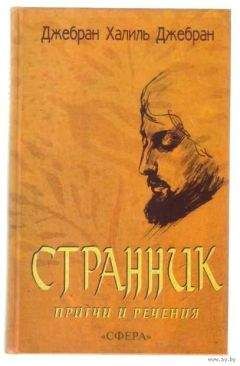На заре студенчества, в Париже, я попал на Монпарнасское кладбище. В его малой части набрел на необычную могилу. Величественная мраморная кровать с ангелом в изголовье, на каменных простынях лежат роскошно одетые супруги. Она в платье с декольте, он в костюме-тройке и с блокнотиком в левой руке. На могиле надпись: «Семья Пижон».
К чему такие изощрения? Недоумевал: по молодости или оттого, что вырос на земле, где могила ничего не значит, а к физическому телу – временной оболочке – не привязываются.
Как-то спросил у Асада, не боится ли он смерти. Дедушка улыбнулся: «Я думаю о другом, Финик. Что полезного сделал и сделаю за отведенное мне время. Еще Руми писал, что не надо искать могилу в земле. Знаешь, где она? В том, что отдали в мир. Я старался жить любя, не знаю, насколько получилось. В любви нет власти, ревности, амбиций. Чем щедрее делишься любовью, тем ее у тебя больше».
18
Перестань себя бояться – ты никогда не один
Мне четырнадцать. Это была самая холодная зима, какую видел на Абшероне. Дул беспощадный хазри, всхлипами из прошлого изводящий чувствительные души, морозными пощечинами бьющий деревья и срывающий крыши с хлипких домов. По приказам ветра волны то уносились в море, то нападали на берег, разрушая дамбы.
На четвертый день января пришла весть о пожаре на нефтедобывающей платформе в акватории Каспия. Из-за шторма оборвался газопровод, заживо сгорели тридцать три человека, жители абшеронских поселков. Абшерон погрузился в траур. Семьи погибших обходили линию берега, надеясь, что море вернет тела отцов, мужей, сыновей.
Всю ту зиму Сона не пропустила ни одного фаджра[13]. Белая нить рассвета только проявлялась на восточном горизонте, а бабушка, подняв руки к небу, уже произносила такбир[14].
На третий день траура, раньше обычного вернувшись из школы, услышал разговор Соны с Асадом. Бабушка держала в морщинистых руках Коран и, склонившись над ним, плакала. Тихо, смиренно. «Боль в моей душе так же бушует, как хазри за окном. Буду молиться, чтобы души погибших нашли покой, а их близкие – силы пережить горе». Я бросил портфель на пороге, вернулся на улицу, где усиливался ветер. Побежал в сторону моря – быстро, не слыша дыхания, не думая, что впереди.
В голове пульсирующей воронкой крутились мысли. О том, что плачущие дети и старики – страшная несправедливость; о том, что подло, когда сильнейшие отбирают все у слабых; о том, что одним суждено жить, другим умирать, и неизвестно, что предписано тебе и твоим близким; о том, что устал жить на полуострове, обдуваемом свирепыми ветрами.
«Неужели чертов хазри не оставит нас в покое? Хватит мучить людей!» – злость переполняла меня, я бежал, преодолевая удары холодного ветра. «Надоело прятаться от тебя, слышишь, надоело! Я здесь, я пришел к тебе. Говори, что хочешь! Ну же, говори!»
Не заметил, как оказался у моря. Оно бросалось волнами, зеленюче-раззеленая вода, словно яд, уничтожала рыбацкие лодки, разламывая их на части. Свистящий гул оглушал, прибрежный песок хлестал по щекам, заполняя глаза. Ничто не могло меня остановить. Я стоял перед бушующим ветром и кричал изо всех сил. Жаждал схватки.
Не верил, что вернусь домой прежним. Так и случилось. Промок до нитки, ушиб ногу, красные от песка глаза, температура. Несмотря на это, внутри я светился победой. Именно в тот день сквозь бурю разглядел маяк, ждущий меня, указывающий дорогу. К себе. Встреча с ним стала важной частью взросления.
Слег с жаром, опухшим горлом, не ел, не пил. Родители спрашивали о произошедшем, о том, как я оказался у штормящего моря. Молчал. Это была моя схватка, как мне тогда казалось, с несправедливостями мироздания. Со временем осознал, что с собой.
Сложная выдалась зима, никогда ее не забуду. С тех пор не боюсь ветров, отправляюсь им навстречу в любое время года. Ветер нашептывает истории, которые должны быть рассказаны. Чтобы кто-то где-то перестал бояться себя и понял, что он никогда не один.
19
В любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть
«Ты борешься с ветряными мельницами, Финик. В твоем возрасте это понятно. Странно было бы, проявляй ты равнодушие. Но в любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть».
Школьный двор, невесомое текучее небо, мы с Асадом сидим на скамейке, у него в руке листовки из красной бумаги с лозунгами против действий школьного руководства.
Нам запретили издавать газету о проблемах во взаимопонимании учеников и учителей. В ответ мы организовали акцию протеста, в первый же час которой меня и друзей отвели к директору. Вызвали родителей, пригрозили отчислением. Мы не испугались.
Я рос в семье, где, несмотря на восточную ментальность, было принято говорить о чувствах. Те, кто так не поступал, виделись мне трусливыми. Под напором юношеского максимализма я не принимал молчание как мудрость, смиренность, бережное отношение. Трус – и все! Я начал презирать ту часть своего класса, что не поддержала протест.
Тогда же в одной из книг вычитал фразу, укрепившую мое мнение, что недосказанность трагична. «Единственное, о чем надо говорить, – наши чувства. Все эти умничанья – вздор. Что в чувствах, то и на словах».
В тот день мы с дедушкой договорились, что я оставлю идею с листовками, плотнее займусь учебой. «Финик, чтобы в будущем помогать тем, кто столкнулся с несправедливостями, ты должен быть хорошо образован». На какое-то время я утих. Спустя полгода снова затеял бунт.
Я бесстрашно делал свое, как мне казалось, важное дело, не думая о последствиях.
Ближе к окончанию школы острота честолюбия сгладилась, я принял, что есть и будут те, кто существует вне моей картины мира. Я мог считать их трусливыми, эгоистичными, злыми, но это не значило, что они должны измениться. Скорее, мне нужно было изменить свое отношение. Мне помогала мысль, что люди вокруг – это и есть я, только в других воплощениях. Стоило подумать об этом, и сразу легчало.
20
Просто живи, улыбайся и люби. Это совсем не трудно
Выхожу из дома и попадаю в мир, где почти все разговоры о кризисе, деньгах, ценах на нефть, конфликтах с соседними государствами, непризнанных геноцидах – о чем угодно, только не о любви. Материальный достаток – немаловажный фактор, и кризис действительно происходит, но источники хаоса не во внешнем мире, а внутри нас, и об этом мало кто задумывается.
Поэтому многие не проходят и не пройдут экзамен. Потому что чем сложнее ситуация, тем обычно злее становимся мы – на себя, людей, на все вокруг. Бросаем вызов миру, а на самом деле воюем с собой. И проигрываем.
В войне нет победителей. Только кажется, что есть, – это всего лишь иллюзия ума, сердце тут ни при чем.
Ненавидеть легче, чем любить; спорить проще, чем обнимать; разрушать незатейливее, чем возрождать. Такова природа человека – ненастоящая, наносная, он к ней привязан который век и никак не отцепится, хотя Вселенная не раз стучалась в двери, давая шансы измениться.
В фильме «Собачье сердце» есть песня на стихи Юлия Кима: «За ними другие приходят – они будут тоже трудны». Не ждите времени, когда кризис пройдет, нефть подорожает, геноциды признают. Прямо сейчас улыбнитесь, обнимите того, кто рядом, и мысленно – тех, кто на расстоянии, замесите тесто для пирога, закиньте в почтовый ящик письмо с теплом, простите того, на кого обида, закройте на минуту глаза и, открыв их, начните жизнь заново. Не относитесь к ней слишком серьезно, не ищите смысла, выгоды, мести.
Просто живите, улыбайтесь и любите. Это нетрудно.
21
Не навреди красоте, продли время её жизни
Морозно-ветреное утро зимнего месяца, какого именно, не помню. Помню все остальное, до мельчайших деталей. Ничего особенного в то утро не произошло. Я вышел в сад впервые после болезни, обвязанный по самые глаза шерстяным шарфом, осунувшийся и пропахший эвкалиптовым маслом.
Большой эвкалипт рос на заднем дворе. По осени Сона собирала его листву, плотно укладывала в стеклянную банку, заливала растительным маслом и настаивала двадцать дней. Отжимала листья руками, процеживала – получался целебный эликсир.
Это было утро долгожданной свободы, о которой мечтал все дни вынужденного домашнего заточения. Мама и в тот день меня бы не выпустила, но поняла: если не выйду хотя бы в сад, сбегу к морю. Со мной можно договориться, удержать – нет.
Ботинки скользят на лестнице, под ними хрустит ледяная корка, от морозного воздуха чуть кружится голова. Подбегает Пялянг, жмется к моей ноге, вместе со мной делает осторожные шаги, словно страхует.
В кармане куртки пирожок с мясом, только из духовки, пес их любит. На пятом шаге под дуновением ветерка Пялянг унюхивает знакомый аромат, тычет носом в курточную полу. «Подожди, обжора, дай до скамейки дойти!»
Заснеженный сад черно-белый. Светлого больше – слепит глаза, проникает внутрь холодным вдохом, будто расширяет пространство для нового. Например, для любви.