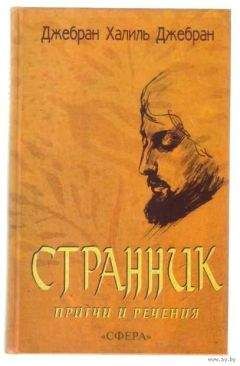Заснеженный сад черно-белый. Светлого больше – слепит глаза, проникает внутрь холодным вдохом, будто расширяет пространство для нового. Например, для любви.
Над скамейкой Асад приделал навес, поэтому она сухая, слегка заледеневшая. Надевая шерстяную варежку, расчищаю два места – себе и Пялянгу. Сидим, наслаждаемся тишиной. Мохнатые хлопья в беспорядочном метании покрывают белизной бугорки коричневой земли, скрывая наши с Пялянгом следы.
Передо мной оливковое дерево – замерзшее, но вечнозеленое. На фоне зимней монохромности оно выделяется жизнелюбием, напоминая страдающую бессонницей красивую женщину. Пока растительность сада глубоко спала, олива не смыкала глаз, ждала тепла, когда перестанет дрожать.
Зимой в щели каменного забора забивались снежинки и, прячась от солнца, жили там неделями. Смотрел на них в их сером укрытии, стараясь дышать в сторону, только бы не навредить хрупкой недолгой красоте.
В тот день подходить к забору не хотелось. Остаток положенного мне времени мы с псом просидели на скамейке в вихре снежного вальса. В эти мгновения я смотрел на все будто со стороны, в деталях запоминая происходящее. Мысленно рисовал картину, рифмующуюся со словом «покой». Позже, когда покоя недоставало, черпал его в этом воспоминании.
22
Тебя ждёт много всего, о чём пока не можешь знать
«Проснулась утром, заправила постель, оделась и поехала на другой конец города, где стояли недостроенные многоэтажки. Взобралась на самую верхотуру, стала на край, чтобы прыгнуть. Хотела покончить с болью. Закрыла глаза, двинулась вперед… В последний миг отступила. Прислонилась к стене, увидела себя со стороны – изможденную, бледную, некрасивую. На серый бетон сыпались снежинки. Пушистые, сверкающие белизной, наполненные жизнью, пусть и недолгой. Что мне дали те минуты? Затмение. Все через него проходят, каждый по-своему. После затмения стала относиться к жизни как к чуду. Переродилась».
Крошечная кухня, печной жар, за окном голые деревья, на подоконнике горшки с цветущими ирисами. На столе раскрытая книга, перевернутая страницами вниз. Серая матерчатая обложка, синяя надпись «Волны» Форуг Фаррохзад[15]. Роза наполняет водой чугунный чайник, ставит на огонь.
Беру книгу. Пожелтевшая бумага, тридцать шестая страница, подчеркнутые карандашом строки. «Ты – морская волна, ты – стремительный шквал, / Непокорный, мятежный прибой. / Ветер смелых надежд, разбиваясь у скал, / Увлекает тебя за собой»[16].
Тетушка Роза с юности увлекается иранской поэзией, и никто из нашей семьи об этом не знал. Скрывала свое сентиментальное мироощущение. Мы ее видели энергичной женщиной-бунтарем, любящей травить анекдоты и петь песни горных народов.
Единственный сын Давуд спустя день после своего пятнадцатилетия навсегда ушел в море – засосала воронка, спасти не удалось. Роза погрузилась в себя. Она по-прежнему ходила на работу, баловала родственников вкусностями, гуляла с нами по набережной, но без шуток, смеха и песен.
Я сблизился с Розой в институтские годы; повзрослев, увидел ее другой. Глубокой, задумчивой и смиренной. Голубые глаза с густыми ресницами, длинные седые волосы, собранные в косу. Она не снимала золотого кольца с гранатом, покрывала голову белыми келагаи, а на вопрос «Как ты?» одинаково отвечала: «Завтра будет еще лучше». Она немало прожила в Стамбуле, но с рождением сына вернулась на Абшерон.
«Как-то в газете мне попался текст американской декларации 1776 года, эпизод из него я запомнила. „Все люди сотворены равными, Творец им дал некоторые неотъемлемые права, в числе которых жизнь, свобода и право на счастье“. Когда море забрало Давуда, я хотела уйти за ним. Не смогла… Началась другая жизнь с иным пониманием счастья. В нем больше „сейчас“.
Мы растрачиваем себя и время на прошедшее и еще не случившееся – всегда там, а не тут. Фантазируем о будущем, горюем о прошлом, упуская настоящий момент. Финик, никто не отвечает за твое счастье, кроме тебя».
* * *
Кукурузная мука золотом горит в Розиных руках. Она ее перебирает, добавляет стакан пшеничной, соль и четверть стакана оливкового масла. Заливает ингредиенты чуть теплой водой, замешивает тесто. Формирует шарики, выкладывает на доску – пусть подходят. Пока попьем чаю. С инжирным вареньем.
Спрашиваю у Розы: «Ты пережила столько всего… Обида на жизнь – у тебя такое бывало?» Из банки вытряхивает в пиалу густое варенье. В окно светит сонное февральское солнце. «Случалось, не понимала жизни, но обиды не было. По-моему, это чувство несовместимо с жизнью. Зачем жить, если живешь обидой?»
Роза рассказывает о глазах человека, сердце которого разбивается, – они становятся необычайно красивыми.
«Знаешь, почему я тогда не прыгнула в пропасть? Мне словно кто-то пообещал, что впереди меня ждут рассветы, которых еще не встречала, и закаты, которые не захочется забывать. Ждут люди, которых еще не полюбила, и мечты, о которых не помышляла. Ждет много всего, о чем пока не могу знать. Позволила себе поверить этому голосу, Финик. Так и оказалось.
На языке пали „счастье“ – это духкха, „болезненность“. Это не значит, что жизнь построена на страданиях. Это о том, что в каждом конце, пусть и болезненном, живет начало нового, счастливого».
Раскатывает шарики в лепешки, щедро обсыпая их мукой, обжаривает на раскаленной сковороде по минуте с каждой стороны.
«Пока вожусь с тестом, принеси из погреба овечьего сыра и приготовь соус из сюзьмы, как я тебя учила. Не забыл, Финик?»
Ах, сюзьма! Вспоминаю, как ее готовила Сона, когда утром нам приносили свежий деревенский йогурт. Совсем не кислый, сладковатый. Одну банку съедали в тот же час, другую пускали на сюзьму.
Бабушка, добавив в йогурт соль, вываливала его на ситцевую ткань и, связав последнюю узлами, подвешивала над раковиной. Ночи достаточно. Мешочек должен быть плотным, чтобы жидкость отцеживалась медленно.
Обычно в нашем доме сюзьму подавали на завтрак, но ею заправляли и супы, холодные и горячие.
Слегка взбиваю сюзьму вилкой, добавляю мелко нарезанный укроп, тертые и отжатые огурцы. Зубчик чеснока, немного нерафинированного оливкового масла – соус к кукурузным лепешкам готов.
Тетушка наблюдает за процессом. Мизинцем берет пробу, кивает – довольна!
Таких лепешек, как у Розы, не ел нигде. Одновременно мягкие и хрустящие, румяные, но не подгоревшие. Словами не объяснишь – магия рук.
* * *
Тетя лечится тишиной. Роза находит в ней то, что редко встречается в земной суете, – понимание, бескорыстие, исцеление. Как только ощущает в себе неполадку, погружается в тишину. Сама того не ведая, Роза помогла мне осознать красоту уединения, рассказывая о пройденном, увиденном, услышанном.
«В центре Стамбула есть длинная пешеходная улица Истикляль. Она с рождения лишена тишины, которую забрали люди в обмен на пустые слова. Меня приносило туда ветрами летних бессонниц, я садилась у гитар уличных музыкантов и наблюдала за кипящим потоком улицы, пахнущей жареными каштанами и разлитым на горячие камни кофе. У каждого свое время в глобальной бесконечности. И это время – самое ценное, прекрасное и настоящее. Оно и есть наш дом. Ищи его не в переулках городов, а в тишине внутри себя».
23
Любовь стучится во все двери, но есть те, кто не открывает
Возвращаюсь со двора, вбегаю в гостиную. Тепло, пахнет горячим хлебом, обсыпанным черным тмином. Бабушка накрывает на стол, в комнате шумит телевизор. На экране кино. Черно-белая картинка. Мужчина во фраке становится на колени перед дамой в пышном платье, в чем-то ей признается, страстно обнимает за талию. Мне пять лет. Не очень понимаю происходящее, но с ходу определяю: любовь. Подходит Сона, шлепает меня по попе. «А ну-ка марш умываться и за стол!»
Иду выполнять бабушкины указания, однако все мысли о любви. О том, что слышал в историях взрослых, о чем читал в первых книжках и вроде бы испытывал к Парване, соседской девчонке. «Это не то, – откровенничает внутренний голос, – ты пока не познал любви в полной мере. Смотришь на красоту моря сквозь толстое стекло – не можешь приблизиться, вдохнуть бриз, уколоть стопы ракушками».
Сона наливает мне аришту[17], пододвигает корзинку с хлебом, тарелку с зеленью, редиской и белым сыром. «Нуш олсун, бала!»[18] Ждет, пока доем суп, чтобы принести второе. Не сводит глаз с экрана. Там уже не про любовь – лошади, дым, сражение. Прихлебывая аришту, спрашиваю: «Бабуль, вот говорят – любовь так, любовь сяк… Не могу понять: а я любил? По-настоящему, ну, как в телевизоре».
Сона встает со стула, выключает телевизор, накрывает его ажурной салфеткой. «Любовь стучится во все двери, Финик. Есть те, кто не отпирает. Одни не верят, вторым некогда, третьи боятся. Жаль этих людей. Они умрут, думая, что прожили жизнь. На самом деле они мертвы».
Уходит на кухню за котлетами и картофельным пюре. В пюре Сона обязательно добавляет пару щепоток куркумы. Первым делом съедаю котлету, освобождая на тарелке место, и разравниваю пюре, вилкой придаю ему округлую форму. Получается солнце, которого пока что не видно за зимним свинцовым небом.