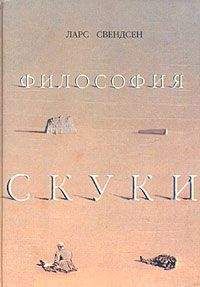– Собралась в церковь?
Жена удивлена, перед ней на мгновенье предстает Устин Полыхаев, её муж.
– С чего ты взял? – И тут же подсказывая, чтобы продлить разговор, подольше насладиться образом прежнего Устина: – Ах, ты про это… – Она вынимает из шкафа косынку, повязывая вокруг головы, будто не замечая хронологической последовательности их беседы. – Нет, просто захотелось примерить…
Устин благодарен. Ему уже хочется отплатить тем же, на минуту прогнав стоявшего между ними незнакомца, хочется быть великодушным:
– Больше туда не ходишь?
Туда? Он имеет в виду церковь, но вдруг она подумает о Грудине? И он уточняет:
– Уже не ищешь Бога?
Жена улыбается, словно оценив иронию, которой на самом деле не было. От этого Устину делается не по себе, но он ещё хочет вернуть благодарность:
– Нашла?
Он сморозил глупость, даже не завуалировав её улыбкой, позволяющей дать обратный ход, переведя всё в шутку. Получилось издевательски зло. Но жена снова выручила:
– Да, наша встреча состоялась, но мы разошлись во взглядах.
В её глазах играют чёртики, на щеках проступает румянец, и Устин узнает её прежнюю, острую на язык, ему хочется всё забыть, простить мелкие обиды, накопившиеся за годы, как накипь в чайнике, хочется обнять эту немолодую женщину, у которой не за горами климакс, и которая всё меньше отвечает за свои слова и поступки, он порывисто встаёт – в длинных, широких трусах, облезлой, выцветшей майке, – но жизнь слишком коротка. Что толку прощать? Разве они успеют ею распорядиться? И он, шаркая тапочками, направляется в ванну, бросая на ходу:
– Ты уже освободила?
Вопрос риторический, Устин и не дожидается ответа. Тюбик зубной пасты, один на двоих, общее полотенце и кусок мыла, ещё помнящий её ладони – вот, пожалуй, и всё, что их объединяет, Устин брызгает на лицо холодную воду, которая, отрезвляя, смывает его запоздалый, ни к чему не ведущий порыв, и, отмахиваясь от нахлынувших чувств, фыркает, что это была всего лишь попытка проявить деликатность, ответная любезность, не более чем. Он совершенно успокаивается. Выйдя из ванной, выключает за собой свет и вдруг произносит совсем неожиданно для себя:
– Давай навестим Грудина.
И всё же пусть Устина остаётся ведущей на телевидении. Обушинский журналист, общность интересов сближает, и, когда она возвращается с передачи, он помогает ей снять пальто, которое вешает на плечики:
– Как всегда на высоте, но зря пригласила оппозиционера.
Она опирается о стену, расстёгивая молнию на сапогах, зависает, как цапля, на одной ноге.
– Почему?
– Он только всё испортил.
– Чем?
– Ложью. Он ближе к властям, чем хочет представить. К чему весь этот фарс?
– Ты ничего не понимаешь, это шоу.
Стащив сапог, она симметрично меняет позу, принимаясь за другой.
– Шоу? То есть нравится актёр в роли положительного героя, а играющий отрицательного неприятен? Но труппа-то одна!
Она с облегчением выпрямляется, сбросив, наконец, сапоги.
– Ты ничего не понимаешь.
– Куда уж мне! Но мне дано предугадать, как ваше шоу отзовётся. Общество не терпит полутонов, оно склонно к поляризации, и в историю входят с ярлыком «друг народа» или его «враг».
– А при чём здесь это?
– Так на этом и идёт игра, бескомпромиссность отметает всё разумное с обеих сторон, позволяя править негодяям.
Мгновенье она смотрит растерянно.
– Ну, ты наивный идеалист! Тебе сколько лет, а ты всё надеешься, что правительство озабочено твоей судьбой?
– Тогда зачем оно?
– Нет, ты определённо ничего не понимаешь.
Или они не дискутируют?
У них в доме будет по-прежнему масса гостей, которые топчутся в прихожей, коридоре, на кухне; как стадо коз просачиваются в комнату Мелании – ах, какая очаровательная девчушка, вся в мать! – они повсюду, даже в ванной и туалете, от них некуда деться, и Обушинский теперь принимает участие в их ни к чему не обязывающей болтовне. От мелькания тем кружится голова, но Устине нечего стыдится мужа, он не подведёт, не уронит чести быть супругом такой женщины, он не раб телевизионной лампы, у него обо всём есть свое мнение, он в курсе мировых проблем, глобализации, экономического кризиса, выход из которого видит в том-то и том-то, но этого почему-то упрямо не замечают политики – они же все шельмы, наши политики, – его возмущает их ложь, он разбирается в тонкостях идеологических разногласий, придерживается левых убеждений и готов их отстаивать до последнего аргумента, если понадобится, взяв в руки винтовку, выйдя на баррикады, – а как по-другому? Он человек мыслящий, интеллигент – судьбы народов, демократии и узников совести, о которых он рассуждает часами, заботят его больше, чем собственная, о которой он молчит.
Он умница, этот Обушинский, славный малый.
Разве здесь его место?
Среди этой стаи?
Впрочем, каждый ведь гадкий утенок, так и не превратившийся в лебедя.
Устин играет за Обушинского.
У нас снова толпа. Друзья, поклонники, нужные люди. «Муж Устины Непыхайло, – представляюсь я, по-военному щёлкнув каблуками, и, чуть поклонившись, касаюсь шеи подбородком. – А когда-то, если кому интересно, меня звали Макар Обушинский». Они смеются. Покраснев, Устина делано разводит руками: «Скажешь тоже». Все немного смущаются. Пауза затягивается. «Ваш супруг, однако, большой политик», – находится кто-то. Но никто не улыбается. Чтобы разрядить обстановку, я цепляюсь к его словам, сворачивая на политиков, скороговоркой: «О, политики! Откуда их ложь? Они что, держат нас за идиотов? Или за слепых? А может, за слепых идиотов? Почему нас кормят обещаниями? Замечали, что процветание всегда в будущем, или в прошлом, отдалённом, чтобы мы уже забыли, как всё было на самом деле? Обмишурить одного совсем непросто, одурачить миллионы не составляет труда. Каждый смотрит на соседа: если тот клюнул, значит, и мне туда дорога, а дальше идёт цепная реакция. Процент тех, кто не поверил, ничтожен, им можно пренебречь. Так управляют массой. Это гораздо легче, чем представляется. И уж совсем не труднее, чем одним. Главное, побольше обещать. Мне кажется, правителей самих подмывает признаться в своей лжи, покаяться в ежедневно растущей вине, в том, что мы и так знаем, но это значило бы разрушить всю игру раз и навсегда, утратить вместе с руководящим положением возможность врать, и мы втайне рады, что они успешно справляются с охватившим их желанием стать на мгновенье честными, иначе, кто будет нас утешать?» Боже, какая длинная речь! И как меня угораздило? Они снова смеются. «Мало кому довелось пожить при правительстве, которое бы вызывало доверие, не говоря уж о восхищении», – говорит кто-то, принимая мои слова за чистую монету. На него косятся. Хотя он прав, на самом деле так и есть. Теперь уже смеюсь я. «Так это зависит не от правительств, которые по большому счёту все одинаковые, а от человека. Большинство априори всегда довольно, иначе бы не было государства». Всем уже надоело, но вежливость удерживает их рядом. «Он у меня бунтарь, – находит выход Устина. – Хорошо, что только домашний». Теперь уже смеются все. Я тоже. А что остаётся? Это хоть как-то искупит мою вину, даст шанс оправдаться, когда все уйдут, и мы останемся наедине. Как боксёры на ринге. Я представляю долгое оглушающее молчание, уголки рта опущены, как у барометра, предвещающего бурю, и, наконец, истощив, измотав, изведя вконец: «Думаешь, самый умный?» Я пожму плечами. «Ты что, задался целью всё мне портить?» По сценарию тут моя реплика: «Что всё?» Но я нерадивый актёр, не читал сценария. «Карьеру, передачу», – подсказывает она, одновременно играя роль суфлёра. Её задевает моё молчание. «Может, ты завидуешь?» Она переводит в личностную плоскость, давит, как ей кажется, на больную мозоль. «Ну, конечно, ты же неудачник». «С чего ты решила? – опять должен вставить я. – Я всем доволен». Но это не обязательно, за долгую жизнь мы репетировали это множество раз, она читает с листа, забегая вперёд. «Ещё бы, хорошо устроился, жена вкалывает, света белого не видит, а он умничает». В нашем диалоге её роль говорить, моя слушать, не давая повода усомниться в том, что мне интересен её монолог. К счастью, она быстро переключается, в этом сказывается её работа, ориентирующая на смол-толк, и вот уже наговорившись с собой: «Ты уложил Меланию?» «Да», – произношу я, и она понимает, что это относится ко всему предыдущему, что я с ней согласен.
Или по-другому.
У меня всё время крутится на языке какое-то слово, как бывает, когда вдруг теряется мысль. Неудачник? Она продолжает изводить допросом – что я хочу, чего не хочу, почему я поступил так, а не этак, можно ли мне доверять, если да, то насколько, чего от меня ещё ждать и так далее и тому подобное. Подкаблучник? Нет, не то. Она снова возвращается к инциденту, рассматривая его под другим углом, увязывает со случившимися ранее, перебирает, как чётки: «А помнишь…» Мальчик для битья? А, чёрт с ним! Главное не забывать молчаливо соглашаться. Я прикусываю язык, и вдруг у меня чуть не срывается: «А почему бы тебе не пригласить меня на свою передачу?» Она огорошена? На мгновенье потеряет дар речи? Это вряд ли. Да, она будет выбита из седла, но быстро найдётся. Как именно? Рассмеётся в глаза? С уничтожающим удивлением переспросит: «Тебя?» Или, ставя в тупик, согласится? Во всех случаях мы сойдём с накатанной колеи. Заманчиво, но что потом? Как мы оба оценим мою импровизацию? Какие последствия будет иметь выход из роли? И я не рискую…