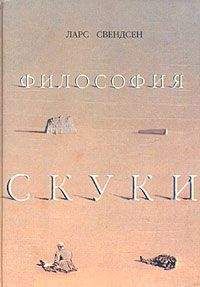Или по-другому.
У меня всё время крутится на языке какое-то слово, как бывает, когда вдруг теряется мысль. Неудачник? Она продолжает изводить допросом – что я хочу, чего не хочу, почему я поступил так, а не этак, можно ли мне доверять, если да, то насколько, чего от меня ещё ждать и так далее и тому подобное. Подкаблучник? Нет, не то. Она снова возвращается к инциденту, рассматривая его под другим углом, увязывает со случившимися ранее, перебирает, как чётки: «А помнишь…» Мальчик для битья? А, чёрт с ним! Главное не забывать молчаливо соглашаться. Я прикусываю язык, и вдруг у меня чуть не срывается: «А почему бы тебе не пригласить меня на свою передачу?» Она огорошена? На мгновенье потеряет дар речи? Это вряд ли. Да, она будет выбита из седла, но быстро найдётся. Как именно? Рассмеётся в глаза? С уничтожающим удивлением переспросит: «Тебя?» Или, ставя в тупик, согласится? Во всех случаях мы сойдём с накатанной колеи. Заманчиво, но что потом? Как мы оба оценим мою импровизацию? Какие последствия будет иметь выход из роли? И я не рискую…
Устин морщится, ему снова не хочется быть Обушинским, на которого он и так слишком похож. Он переигрывает ту же сцену за Устину. С какого момента? С того, когда Обушинский представляется:
«Муж Устины Непыхайло, а до брака, если кому интересно, меня звали Макар Обушинский».
Обязательно меня компрометировать? У него с утра плохое настроение, он не дождался от меня сочувствия и теперь играет на публику. Но при чём здесь я? К чему выставлять напоказ наши отношения? Паяц! А тирада про политиков? Верх остроумия! Я еле сдержалась…
Нет, лучше позже, когда они остаются одни.
Я молчу, выжидая, когда он сам начнёт разговор. Внешне он само спокойствие, но по тому, как тянется за сигаретой, понимаю, нервничает. Вторая сигарета, третья… Так может тянуться бесконечно. «Думаешь, самый умный?» Меня прорывает, и это его маленькая победа. «Ты задался целью мне всё портить?» Вопросы повисают в воздухе. Я знаю, он будет пожимать плечами, хмыкать, нервно гасить окурок в пепельнице, но не проронит ни слова. Что за этим стоит? Всё просто, он хочет, чтобы я пригласила его в студию. Но сказать об этом не решается. «Карьеру, передачу», – провоцирую я. Он молчит. «Может, ты завидуешь?» Я откровенно его дразню. Тоже хороша! Добиваюсь признаний от собственного мужа, провоцирую его на первый шаг. И как нам ещё не надоела эта игра в журавля и цаплю? Он делает вид, что слушает, я – что его пилю. Откуда эта борьба самолюбий? Мы что, оба мечтаем об идеальной паре? Раньше было всё по-другому. Раньше бы я рассказала ему историю. Про идеальную пару. Например, такую:
«Взяв молодую, он смеялся: „У меня неравный брак!“ Она слышала его чаще в телефонной трубке, звала „мой маленький бэйджик“, а, овдовев, выпустила бестселлер „Преимущества жизни со стариком“. Он был трудоголик, у него под рукой всегда был компьютер, под подушкой, вместо револьвера, мобильный, а про умерших он говорил – ушли в бессрочный отпуск. Чтобы не изменять, он избегал женщин и окружил себя некрасивыми мужчинами. „То ли мы знаем из того, что знаем? – листала она женские журналы. – И то ли не знаем, из того, что не знаем?“ Он вёл деловую переписку, складывая бумаги в несгораемый шкаф. Она писала стихи, которые потом сжигала. „Трудно написать, – жаловалась она ему, – но ещё труднее отказаться от написанного“.
Вечера он проводил в клубе. „Скромность всегда лишняя“, – стучал он вилкой по рюмке. Она коротала дни в дорогих бутиках и на интернетовских форумах. „Все мечтают опередить время, – стучала по клавиатуре. – Но время опережает всех“. Возвращаясь поздно ночью, он стаскивал ботинок о ботинок:
– А всё же деньги – это свобода!
– От денег, – кривилась она, показывая новое платье.
Спали они в разных постелях, а любовью занимались при бессоннице. Он был героем её фантазий, она – героиней его грёз. Он прожил убеждённым холостяком, она рано вышла за сверстника, с которым состарилась, ведя молчаливые диалоги».
Да, я бы рассказала ему эту историю и с её помощью навела бы мосты, прорубив брешь в стене его молчания.
Но то было раньше.
А теперь он будет молчать до скончания века, и всё, что остаётся, это пилить его против своей воли…
Устин подавлен. Ему никак не удаётся найти за Устину нужные слова. К чему её истории? Обушинский не ребёнок, чтобы слушать их на ночь, когда вместе с луной к оконному стеклу прилипли мёртвые глаза разлуки? Видит ли их Устина? Тогда он может рассказать про них. Устин снова переключается, играя теперь за Обушинского:
А ещё я бы мог избавиться от её монотонного жужжания, отмахнувшись, как от привязчивого слепня, я бы мог сбить её, отвлечь, ткнув пальцем в окно: «Разве ты не знаешь, что у разлуки мёртвые глаза?» Она вздрогнет, не понимая, о чём речь, на мгновение осечётся, а я, вклинившись в паузу, заполню её историей, давно сложившейся в моей голове:
«Без него она сходила с ума. „Задыхаюсь от тоски!“ – запечатывала она письмо слезами, точно сургучом. Ответ приходил странный: „Ты предпочитаешь сон в одиночестве или одиночество во сне?“
И тогда она понимала, что спит.
– Пусто без тебя, – проснувшись, глухо шептала она по телефону.
– Не с кем поругаться? – слышался его слабый смех.
– С кем поругаться – всегда есть, помириться не с кем.
Его голос искажало расстояние, а образ тонул в памяти. Она видела родинку на его щеке, видела руки, жадно ласкавшие её, но видела их будто в осколках зеркала, не в силах разобрать, кому они принадлежат.
– Ты моя, моя! – ненасытно повторял он.
– Твоя, – эхом откликалась она.
И не понимала, что мешает им быть вместе.
Она поселилась в его „мобильном“, который он, как женщина ребёнка, носил под сердцем – во внутреннем кармане пиджака.
– Пусто без тебя, – жаловался он.
– Поругаться не с кем? – смеялись на другом конце.
– С кем поругаться – всегда есть, не с кем помириться.
Старясь уловить её настроение, он жадно вслушивался в голос, искажённый расстоянием, но не мог представить её лица. Только иногда ему вспоминались её губы, и тогда он вдруг видел всю её, словно озарённую молнией. Но запечатлеть в памяти не успевал. В смятении он шёл в город, бродил по ночным безлюдным улицам, разглядывая свою тень, двоившуюся жёлтым светом фонарей, и, как на иголки, всюду натыкался на её отсутствие.
Часы разлуки казались ей бесконечными. „Заставляют быть с чужими“, – кусала она губы. И злилась оттого, что не может противиться судьбе.
Ночи тянулись долгими вёрстами, а дни пролетали стайкой грязных голубей. „Запихали, будто шапку в рукав“, – думал он, и его охватывало бешенство. Он готов был сорваться за ней хоть на край света, приходя на вокзал, покупал билеты сразу во все города.
Но его никуда не звали.
Дни мешались с ночами, весна с осенью, а зимой она всё чаще видела на снегу птичьи следы, расходящиеся в разные стороны. „Близость мимолётна, разлука бесконечна“, – читала она их причудливые письмена.
И чувствовала себя героиней чужого сна.
Ночами она приходила во сне. Но и тогда он лишь смутно различал её черты. „Без тебя я – музейный экспонат“, – шевелил он непослушными губами. А проснувшись, думал, что быть в разлуке, значит видеть сны-половинки, это значит блуждать впотьмах, как слепой, пробираясь на ощупь, то и дело натыкаясь на невидимую стену.
В другом сне они занимались любовью. Она сидела на нём верхом, повернувшись спиной, скакала, как всадница, постепенно исчезая. И тут он заметил рядом обнажённую девочку, которая протягивала к нему руки. Смущаясь, он притянул её и, обняв, понял, что это она, сошедшая со своих детских фотографий…
Она не знала ни его возраста, ни имени. „Мы как душа и тело, – думала она, – когда нас разлучили, мы умерли“.
Раз во сне они занимались любовью, она сидела на коленях, повернувшись к нему спиной, чувствуя, что на его лице, как в зеркале, повторялась её улыбка. И тут заметила перед собой мальчика, совершенно голого. Она взяла его за руку и, разглядев на щеке родинку, поняла, что этот ребёнок – он…
Однажды ему почудилось, будто он находится в её квартире, и она ищет его, широко раскинув руки, как в игре в „прятки“. Его сердце бешено колотилось, он вышел на середину комнаты, стал кричать, беззвучно шевеля губами, пока не понял, что остаётся для неё незримым.
И тут очнулся в своей постели, показавшейся ему чужой.
Иногда, выйдя из ванной, она чувствовала, что он рядом, в её квартире. Тогда, раскинув руки, она искала его повсюду, будто с завязанными глазами водила в „прятки“, открывая двери и распахивая шторы, за которыми зияло пустое окно. Ей хотелось шагнуть в ночное небо, как птица, кружить над городом в безумной надежде увидеть его.
Но вместо этого она опускалась на одинокую постель.
И тогда квартира казалась ей чужой.
Случалось, от неё приходили листы белой, без единого слова, бумаги – письма без обратного адреса. Он долго вчитывался в их начертанные симпатическими чернилами буквы, водя пальцем по невидимым строкам, а потом выбегал на улицу, останавливая прохожих, спрашивал о ней. Но те с каменными лицами проходили мимо. А он, чтобы нарушить их заговор молчания, задирал голову к небу и кричал так, что в ушах лопались перепонки.