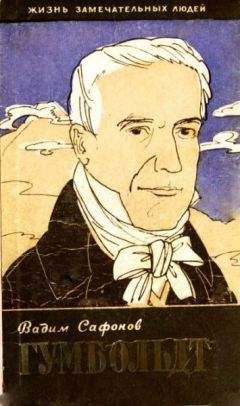– Я так чувствую, – сказала я. – Меня мое предчувствие никогда не обманывало.
– Я тебе не верю, – покачал головой он, – и вообще, это не ты. Это не ты, не ты, не ты, – повторил он несколько раз.
– Здрасьте! – сказала я. – А кто же?
– Не знаю, – сказал он, прикоснувшись рукой ко лбу. – У меня действительно болит голова. – Он поднялся, повернулся к окну, отошел на шаг, ловя сырой свежий воздух из фрамуги. – Но это не должно кончиться, – сказал он. – Во всяком случае, я здесь для этого. Все очень удачно совпало. Я буду с тобой откровенен: ты проглотила мою наживку. Ты подобрала кошелек.
– Позвольте, – возразила я, – вы хотите сказать, что…
– Да, – сказал он, – именно это я и хочу сказать. Я положил кошелек на крыльцо за полминуты буквально до того, как ты вышла из дома. Я положил его так, что ты не могла его не заметить, а сам стоял, спрятавшись за уступом и водосточной трубой, примерно в пяти шагах. Это была очень удобная позиция. Маленькая щелка между трубой и стеной. Если бы дверь открылась и вышел кто-то другой, и если бы кто-то другой прошел мимо крыльца, я бы тут же бы подскочил и подобрал бы оброненный кошелек. Оброненный мною. Но все вышло, как я хотел. Как ты очаровательно и ловко притворилась, что слегка подвернула ногу! Как незаметно ты сунула кошелек в сумку! Клянусь, если бы я стоял хотя бы на пять шагов дальше – я бы ничего не заподозрил. Да даже стоя там, где я стоял, если бы я не знал, если бы я сам не подложил кошелек – я бы тоже ничего не заподозрил.
– Хватит на «ты», – сказала я. – Но если бы я пнула этот кошелек ногой и пошла бы дальше, или отнесла бы его в полицию, или просто накупила бы себе на все деньги кофточек, шляпок, висюлек и шоколадок – что тогда?
– Тогда бы мне не повезло, – ответил он. – Но я знал, я знал, что мне повезет. Глядя на вас, я видел, как вам хочется самостоятельной жизни. Больше того, пару лет назад…
– Так сколько лет назад это было? – закричала я. Закричала так громко, что услышала, как в нижнем этаже прямо под нами заскрипела кровать, и кто-то застонал. Наверное, я разбудила человека. – Сколько, отвечайте!
– Помиримся на трех? – сказал он.
– Не смешно, – сказала я.
– Да неважно. Может быть, вам действительно было только тринадцать. Да скорее всего. Черт вас знает. Я вспомню. Я подниму свои записи. У меня есть блокноты. Хотя, конечно, я вряд ли заносил туда что-то такое. Неважно. Важно, что вы уже тогда говорили, что это ваша мечта – убежать от папы и пожить где-нибудь тайком.
Он обсчитался. Или ему было стыдно. Потому что тогда мне было одиннадцать лет и четыре месяца – когда я смотрела в бинокль на лепнину вокруг нашего окна, а он со мной заговорил.
– Не верю, – сказала я. – Хотя, возможно, вы и на самом деле подглядели, как я подобрала кошелек. Я даже представляю себе, как это было. Вы вышли из дверей нашего подъезда, прямо перед вами шагал какой-то господин. Может быть, с верхнего этажа, а скорее всего, из бельэтажа, из этой адвокатской конторы. Этот господин обронил кошелек. Скорее всего, он действительно выходил из адвокатской конторы. Он волновался. Он был зол. С него слупили много денег. Проходя по лестничному маршу, он, наверное, пересчитал оставшиеся деньги, с досадою защелкнул портмоне и сунул его во внутренний карман пальто. И, наверное, он был так раздражен, сердит и расстроен, что сунул его мимо кармана. И когда он выходил, когда дверь скрипела и щелкала, портмоне как раз выскользнуло из-под его пальто. А вы шли сзади. Вы это увидели. Но вы побоялись подобрать кошелек. Потому что, если бы этот тип вдруг ощутил пустоту в боковом кармане и вдруг вспомнил, как что-то скользнуло по его бедру и упало на крыльцо, и через пять шагов обернулся бы – он бы увидел, как вы подбираете его кошелек и прячете себе в карман. О! Это была бы презабавная сценка! Вы, конечно, тут же сказали бы: «Сударь, ваш кошелек! Я как раз собрался нести его в полицейский участок. Вот, возьмите его». Но, поскольку господин, уронивший кошелек, был, как уже сказано, зол, раздражен, огорчен и расстроен, он вполне мог бы, не дожидаясь ваших объяснений, закричать: «Отдавай мой кошелек!» – и влепить тяжелой тростью с золоченым набалдашником вам по лбу.
– А откуда вы знаете, что у него была трость? – спросил господин Фишер.
– Ага! – сказала я. – Вот и проговорились!
– Да нет, что вы! – возмутился господин Фишер. – Это я так, к примеру. Какая трость? Не было никакой трости.
– Была, была, – смеялась я. – Вон вы как встрепенулись.
– Не было никакой трости! – возмущенно закричал Фишер. – Еще раз повторяю. Вы все сочиняете, а я просто спрашиваю, откуда такой полет фантазии? Вы в самом деле крупнейшая фантазерка.
– Так что – продолжала я, – вы отошли в сторонку, заняли удобную позицию и стали ждать, покуда господин Растеряха скроется за углом. И вот в тот самый момент, когда вы были уже готовы протянуть руку к кошельку – ба-бах, дверь открывается и появляется ваша старая приятельница, наступает на кошелек ногой, а дальше вы уже сами знаете. Хотя и тогда вы могли бы выйти из-за водосточной тубы, громко охлопывая карманы и приговаривая «Боже! Что же делать? Какая досада! Там было столько денег!» Клянусь, я бы тут же отдала кошелек вам. Может быть, даже с извинениями, что я наступила на него своим башмачком. Я бы счистила след своей подметки с вашего кошелька краем накидки и протянула бы вам его с вежливым книксеном: «Пожалуйста, сударь!». И вы вполне могли бы предложить мне отпраздновать обретение утерянного кошелька. Хоть в нашей любимой кофейне по соседству, хоть в каком-нибудь модном и дорогом ресторане. А там уж начать за мной ухаживать по-настоящему. Покупать цветы, декламировать стихи, провожать домой, посылать письма в изящных длинных конвертах. Кстати, – спросила я, – а сколько там было денег?
– Неужели вы не пересчитали? – засмеялся он.
– Пересчитала, конечно, – сказала я. – Ну а вдруг обсчиталась? Сколько же там было?
– Вы сами знаете, и довольно об этом, – сказал он.
– Довольно, – сказала я, зашла в спальню и закрыла дверь на щеколду.
Боже, почему они все время лгут? Всегда и везде. По любому поводу. И без повода тоже. Интересно, это как-то связано с эгоизмом? Наверное, да. Если хочешь быть эгоистичным до конца, ты непременно должен у кого-то что-то отнять. Можно ли назвать эгоистом Робинзона на необитаемом острове? Или одинокого человека, чье добровольное одиночество не ранит никого из его близких? У которого и близких-то нету. Конечно, нет. Эгоист тешит свое «эго» за счет других. В большом и малом. Особенно в малом. И вот для этого необходимо вранье. Бог мой, как это грустно! Я стала вспоминать, когда я последний раз крупно врала. Что-то ничего серьезного не припоминалось. Разве что сегодня вечером, то есть уже вчера вечером, я сказала папе, что переночую у мамы. Впрочем, ночь еще не кончилась. Если б мне очень захотелось быть безупречно правдивой, я могла бы сейчас быстренько вприпрыжку, ибо вниз легко, сбежать с холма, найти извозчика и поехать на Инзель. Разбудить среди ночи маму, потребовать чашку мятного чая и постель. Не думаю, чтобы она меня прогнала. А если бы прогнала – вернулась бы домой к папе. Но это все ерунда, конечно. Я некрасиво поступила с Гретой. Я ее шантажировала. Заставила совершить явную непристойность, чтоб пощекотать свои нервы. Но я, кажется, ей не лгала. Более того, когда я отказалась взять ее с собой в Штефанбург, я сказала ей правду: «Папа уже назначил другого повара. Вот если бы он назначил твоего дружка Ивана – тогда другое дело». То есть я не только сказала правду, но и повела себя как высокоморальная девица. А интересно: когда человек лжет самому себе, он тоже лжец или как? Трудный вопрос. Об этом надо думать и думать. Думая обо всем этом, я отогнула одеяло, увидела свежезастеленную постель (все-таки не зря плачены пять крон в месяц за услуги горничной), нашла еще одну свечку, пошла в уборную, сделала все дела, сполоснулась и умылась холодной водой, вытерлась, разделась окончательно, вспомнила, что моя сумка с ночной рубашкой осталась в другой комнате, подошла к двери и, не открывая щеколду спросила:
– Господин Фишер, вы уже ушли?
– Я собираюсь спать, – сказал господин Фишер. – Я устраиваюсь на диване. Здесь есть плед, я нашел.
Честное слово, если бы здесь была какая-нибудь кнопка швейцара, я обязательно бы его вызвала и велела бы вытолкать этого наглеца. Но кнопки не было, и сил у меня не было тоже.
– Господин Фишер, – сказала я, – там, где-то около двери мой саквояж, видите?
– Вижу, – сказал он.
– Не откажите в любезности – передайте его мне. Я открою дверь, а вы поставьте его на порог и пихните ногой.
– Отчего такие сложности?
– Я уже разделась, господин Фишер, – сказала я. – Если вам так неймется посмотреть на меня голую – заходите. Но предупреждаю: я очень, очень некрасивая. Особенно в голом виде.
Я раскрыла дверь. На пороге стоял господин Фишер. Он снял сюртук и брюки. Его белая сорочка была до середины бедра, а галстук он развязал, но снять забыл, и две черные полоски свисали с его шеи с двух сторон. Он уже снял ботинки и был в носках. Носки были на смешных подвязках под коленом, как маленький женский пояс для чулок. Только женский пояс был широкий, по талии, с тремя, а то и с четырьмя подвязками с каждой стороны для каждого чулка. А здесь был малюсенький такой поясочек – в размер голени – и с одной подвязкой. Я видела такие у папы.