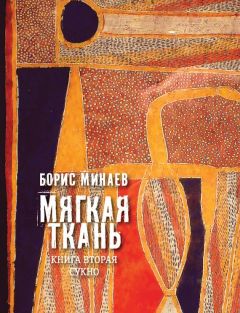– Нет-нет, – сказал доктор, – тут что-то другое, всех убивали не за это, а их за это.
– Это вы что хотите сказать, что они принесли какую-то особую жертву? Уверяю вас, нет, люди погибали миллионами, миллионами, вы просто этого не видели, а я-то видел. Когда в город, к примеру говоря, входили наши части, понимаете, наши части, так вот, они входили в город, останавливали грабежи. И что они делали в первую очередь? Они прекращали спекуляции, то есть крестьяне не могли более свободно торговать, возникал голод, иногда страшный голод, но дело даже не в этом. Там сразу начинались проверки, облавы, забирали без разбора всех, кто мог быть пособником врага, это было неизбежно в той ситуации, брали заложников, из семей дворянских, мещанских, разночинских, неважно, всех, кто не рабочий, кто жил в каменных, да и деревянных домах, проходили и брали всех, тысячи, тысячи, целыми семьями, и если вдруг убивали, взрывали кого-то из наших командиров, комиссаров, если что-то происходило, наступление белых, например, их сразу расстреливали, сразу, говорили так: сегодня расстреляем сто, завтра тысячу. Они были виноваты уже тем, что они из этих, заложники погибали первыми, вот так это возникло, поэтому, доктор, вы не можете представить себе уровень ненависти. Евреи просто попадались под руку, им мстили, нужны были другие заложники, все евреи были заложниками белых, и слава богу, что все это кончилось.
– Нет-нет, – сказал доктор, – дело не в этом, это я понимаю, но тут другое, тут все-таки что-то другое, нельзя это оставлять вот так, безнаказанным, с этой девушкой Саррой, хотя ее и могли бы спасти, тут вы правы, это немного меняет историю, но все-таки тут другое, ведь, понимаете, дорогой Иван Иванович, если вы чувствуете присутствие бога, ну то есть что бог глядит на вас, и все-таки вы убиваете его, но это ведь что-то значит, когда человек переступает через это, что-то же с ним происходит, меняется его природа, разве нет. Но почему же потом, понимаете, потом он точно так же ест, пьет, испражняется и все остальное, он все делает, как ему бог велел, он детей своих любит, он радуется солнечному лучу, как? Как это происходит, где тот механизм, когда память стирает вашу боль, когда вы вновь обретаете человеческое в себе? Значит, все это человеческое – это не «мысли, чувства и душа», как думали мы раньше, до войны, это просто некая плоть, некая материя, и она нарастает, или отрастает, или зарастает, словом, она затягивает эти дыры, эти страшные дыры. Как, как это происходит, я вот это хотел у вас узнать.
– Но доктор, – тяжело пробасил Иванов, – почем же я знаю, я не по этой части, уверяю вас, я совсем по другой части, но, мне кажется, в этом и есть спасение, только в этом, что забыть зло – это возможно, надо забыть, надо не думать, надо, чтоб заросло, иначе все превратятся в одержимых, в калек, все будут убийцы, а они не убийцы, они просто оказались рядом с убийством, понимаете, просто оказались рядом.
– Но тогда зачем, объясните, зачем, если это так, зачем дано это страдание, разве не затем, чтобы мы не забыли, и чтобы мы воскресили этих умерших, и чтобы зло не забылось и не повторилось вновь?
– Да нет, доктор, ну как оно может не повториться, по-другому, да, иначе, но оно повторится обязательно, это уж, изволите видеть, неизбежно и обязательно, неизбежно и обязательно, просто теперь мы будем умнее, мы станем чуть умнее, только и всего…
– А вы уверены, дорогой Иван Иванович, что это, и здесь я имею в виду не какое-то абстрактное зло, а конкретно вот это – массовое убийство евреев, не повторится при каких-то других обстоятельствах?
– Да, я уверен, я абсолютно полностью уверен, вы не сомневайтесь, доктор, все это кончилось, все это прошло, навсегда, навсегда, и все, и все.
И они попрощались нежно, тепло, и доктор, по-прежнему чуть покачиваясь, пошел своей дорогой, то есть пошел просто по улице, даже не совсем разбирая, куда он идет, но он продолжал думать над тем, что услышал, и о том, что знал сам. Может быть, он не смог сформулировать, выразить всего, что хотел бы рассказать Иванову, об этой девушке Сарре и докторе Сорокине, ведь то была, казалось бы, секунда, секунда, но в ней пролетела целая жизнь и решилось что-то очень важное, но как решилось…
И доктор Весленский крупно вздрогнул, оглянулся и быстро пошел домой.
Глава девятая. Кременчуг (1938)
Бабушка Соня оставляла каждый вечер на столе в гостиной тарелку с манной кашей, залитой вишневым вареньем. Они возвращались под утро и ели ее, эту холодную манную кашу с вареньем, давясь от тихого смеха.
Это было так необыкновенно вкусно, что Нина, которая и горячую-то кашу по утрам почти никогда не ела, потому что давилась ею с раннего детства, предпочитая бутерброд или яйцо, сама себе удивлялась – ну вот как же так: ночью и кашу. Но аппетит после этих прогулок был зверский. Роза, двоюродная сестра, приезжавшая в Кременчуг на все каникулы, точно так же смеялась и уплетала кашу, но однажды она сказала, внимательно посмотрев на Нину: «Знаешь, а ты привыкла». Это было горько, но в этом не было никакой ее вины, подумала вдруг Нина, нет, ничего она не забыла, просто жила дальше, потому что другого выхода нет: только жить дальше.
Им обеим было уже по пятнадцать лет. Возраст мучительный, но все же прекрасный – ты впервые ясно понимаешь, что на тебя обращают внимание мужчины. И очень много мужчин.
В этом смысле у них была полная гармония – обращали внимание на обеих. Иногда пытались ухаживать сразу «в два конца», где быстрей повезет. Но никому не везло – договорились с Розой еще год назад, что «ничего такого не произойдет», пока не будет «настоящего чувства».
Остроту всем этим летним приключениям придавало то обстоятельство, что вокруг них было довольно много взрослых мужчин. Офицеры. Инженеры. Учителя. Партработники.
Котировались только те, кто мог «поддержать разговор», то есть суметь быть веселым и ненавязчивым. Разговор – это было очень важно.
В Кременчуге существовало несколько институтов, студенты тоже приходили на танцы, но вот как раз с ними – слишком худыми или слишком толстыми, слишком робкими или слишком смешливыми, слишком розовощекими или слишком бледными – было опасно: в ровесника (или в почти ровесника) можно незаметно влюбиться, и лето будет безнадежно испорчено.
Танцы были в разных местах, и если в каком-то (например, в «Советском металлурге») становилось «слишком скучно», они шли в другое (в парк имени Сталина), где музыкантов не то что не отпускали до самого утра (просто подходили люди и незаметно клали купюру в карман гитаристу или барабанщику), но иногда несчастные музыканты просто засыпали на ходу и валились на пол прямо во время исполнения, но все равно не покидали сцену – лето, золотая пора, грибные места!
И вот, одни или с кавалерами, они шли в «другое место» – полчаса, иногда час, и это было самое веселое: почти пустые улицы, ветви абрикоса или вишни свешиваются через забор, в прохладной пустоте спящего города они слышали стук своих каблуков, это была их тайная морзянка – я-ни-в-кого-не-влюб-ле-на-и-мне-хо-ро-шо…
Солнце, поднимавшееся с низкого берега реки, сначала выпускало свет – бледный, но сияющий, радостный, невероятно бодрый свет летнего утра, – и смеяться хотелось вообще-то просто так. И было можно смеяться.
Смеяться хотелось буквально все время, а иногда вообще попадались такие экземпляры, что просто туши свет. Был, например, такой преподаватель политэкономии по фамилии Петров, невероятно высокий и какой-то чересчур гибкий, с уже начинающей лысеть, очень умной на вид головой, тридцати трех лет от роду, он очень смешно говорил про обобществление женщин, это была идея Августа Бебеля, Ниночка, но учтите, тогда (это значит, в эпоху раннего социализма, догадывалась она, мучительно вспоминая даты) имелись в виду вовсе не позорные права собственности, что, мол, каждый с каждым будет иметь интимные отношения, понимаете меня, вовсе нет, имелось в виду тогда, что никакая женщина не может принадлежать только одному мужчине, измена не преступление, а лишь иное измерение жизни, более осмысленное, в наши дни так поступают очень многие: мужчина, например, открыто поддерживает отношения с двумя или тремя особами, а одна из этих особ, если не дура, точно так же пытается поддерживать отношения с другим мужчиной, все по-честному, вот у меня есть знакомый… Иногда Петров осекался и спрашивал другим голосом: девчонки, а вам все-таки сколько лет, – они хохотали, очень громко, даже не боясь спугнуть или разбудить ночной Кременчуг, они очень любили этот вопрос, – не ваше дело, Петров!!! Ну хорошо, немного смущенно продолжал он, не будем о знакомых, но вы, наверное, слышали о поэте Маяковском, у него был вот такой тройной брак. И чем же это закончилось? – остро спрашивала Роза, и в этом вопросе уже не было ни смеха, ни подколки, ей было весьма интересно мнение товарища Петрова. В случае Маяковского это закончилось не очень хорошо, но, понимаете, ведь жизнь сложна, Маяковский был в какой-то мере болен, однако многие: поэты, журналисты, редакторы, кинематографисты, в особенности кинематографисты, они вообще не делают из этого никакой проблемы, брак – это союз прежде всего взрослых и свободных людей, если ты взрослый, то ты свободный, внутренняя свобода – вот что отличает человека состоявшегося, состоявшегося как личность.