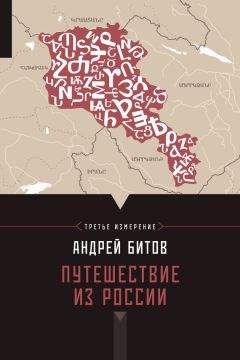– Ты пойми, печень… – говорил я. – Ты должна меня понять.
Мой друг парил, мой друг царил, сверкали его глаза. Он все прямился, все ровнее и торжественней держал руку со стаканом; все вертикальней становилась национальная линия его плеча, ее прямой угол с шеей; и вот он уже сошел с картины Пиросмани «Пир князей». Наши столы давно слились: человек, так похожий на моего отца в молодости, легким, не фамильярным объятием закреплял это наше кровное фотородство; нашу лодочку отвязали, и мы неслись вниз по оврагу на встречу с Главным Кавказским хребтом; свиньи, то ли чтобы протрезветь, страстно чесались о покрышки самосвалов, которые, уж видно, сегодня так здесь и заночуют… Мой друг говорил тост, который мне не надо было уже переводить с русского на грузинский, я и по-русски-то теперь не хуже понимаю, чем по-грузински… И так счастлив он был, мой друг, что я понял, что и ему, обладающему даром именно этого мира, в котором мы сейчас находились, куда как легче и приятней попадать в него со стороны, чем настойчиво проносить с собою.
Ах, жизнеутверждающей может быть лишь чужая жизнь!
И здесь именно, на слово поверив моему другу, что я того стою, подарили мне книжку, единственную, какая случайно оказалась у моего названого брата, все более похожего на моего отца, и была это – помечтать такое трудно! – биография Пушкина на грузинском языке. Я разрыдался от такой символики.
Нехорошо пить с горя – вредно, но не напиться от счастья – невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти мне волевые люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго, оттого что упустили его!). Не может отвернуться от счастья человек, а время течет, и точит, и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло – куда?.. Неужели такое, ради чего всю жизнь жили, может кончиться? Нет! Никогда! Никогда не предадим мы этого счастья сами! Просто – разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало.
И Гоги скоро перепечатает весь жмых в огонь и изведет весь огонь в жмых. И решетка в очаге совсем прогнется, прорвется и прогорит. И тогда свернет Гоги свой завод, скатает в трубочку: котел вынет и домой унесет, столбы выкопает и тоже домой унесет, во дворе прислонит; остальное так оставит, как мусор. Так мне рассказали, что будет после того, как мы уедем…
И такой печальный конец… Гоги уходит вниз по оврагу, как бродячий актер, свернув свой балаганчик: сгибаясь под тяжестью бревен на плечах, неся медный таз под мышкой, отражая своим боком солнце… Так он уходит в бесконечную перспективу, унося с собой мое счастье, будто это не я к нему по случаю попал, а он – в меня.
Если бы не сказал другой, правда русский, великий поэт, но тоже сотканный из братьев: «Юнкер Шмидт! Честное слово, лето возвратится!» – то я бы не знал, чем утешиться.
Все здесь заработали себе осень. Одним нам досталось даром кем-то заслуженное счастье. Добрые и растроганные, мы заедем еще на базар, купим кувшин и рубаху, презирая свои бумажные деньги и завидуя их нажитым.
На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: «Нет даже винограда».
Анахарсис-скиф, VI в. до н. э.
К холоду человек привыкнуть не может.
Руаль Амундсен
Мои пограничные впечатления
Издалека начинается это движение… С Петра! не то благодетеля, не то антихриста. Моя мама до сих пор опускает предлоги в телеграммах, «не любит» такси и в поезде едет лишь четвертым классом (так называемый плацкарт), носильщика не возьмет. Если бы она подсчитала, сколько при этом экономит, то разница ее бы рассмешила. А я помню, что после войны, еще года три-четыре, она непременно съедала и вторую тарелку супа, налитую до краев, с толстым хлебом и лишь после этого могла считать себя сытой – хрупкая интеллигентная красавица… В Европе и суп и хлеб стали пережитком: суп еще надо поискать, а хлеб вам принесут отдельно, когда вы удивитесь, что его нет. Не экономят – берегут фигуру, научно питаются – люди, которые давно сыты. Покупается (без очереди) 100 г того, 50 г сего – чтобы тут же съесть, свежее. Вчерашнее выбрасывается. Какой барьер надо перейти, чтобы мочь выбросить в помойное ведро! Голод и холод пронизали до костей. Холод и голод… Мы еще не пережили вторую тарелку супа, добавку. ДОБАВКА! – дополнительная порция, усиленное питание – представьте, что эти слова перевод с английского… Когда у моей мамы очередной приступ печени – я с уверенностью могу сказать, что она «пожалела» залежавшийся продукт. И фигуру ей так и не пришлось «сохранять»: всегда такая. Голодные люди не станут есть вкусно, да ведь и книги перестают читать во время книжного голода. Их достают.
Голод и холод до костей… Был я в соцстране, завелись у меня местные, полувалютные деньги – решил купить шубу. Возникли волнения и проблемы – на что же они похожи? – да на покупку коровы, вот на что. Когда мой спутник, специалист по русской литературе (естественно, именно он таскается за мной по магазинам, расширяя свой профессиональный горизонт…), сказал: «Все-таки у русских писателей до сих пор комплекс гоголевской шинели», – я обиделся (тем более что комплекс у меня был – главным образом, перед ним, таким предупредительным и воспитанным, что я как русский, имперский человек легко мог заподозрить его в иронии, насмешке, а там и в презрении…). Я сказал ему в сердцах, что он мог бы как специалист быть в курсе, что это сказал не Достоевский, а Тургенев, а во-вторых – не все (не все из нее вышли)… Однако, потихоньку остынув, умерив комплекс пришельца (тем более что я не прервал свой поход и не отказался от его услуг), я понял, что и сам неоднократно так говорил, только не хотел бы слушать из иностранных уст.
И впрямь барская шуба… царская шуба… царский подарок… то есть с царского плеча… Гринев дарит Пугачеву заячий тулуп… наконец, «Шинель», – не поймешь, не истолкуешь его – гений!.. Мандельштам «в не по чину барственной шубе»… Конечно же, шуба переросла себя, стала символом благосостояния, удачи. Потом, что как не шубу продают и пропивают?.. И грабят, естественно. «…Силы, снявшие шинель с Акакия Акакиевича…» Или вот еще, один мой приятель, бывший московский прозаик, прикатил на гребне успеха в мой город, «знакомый до слез», – заключить договор на «Ленфильме». Поселился в «Европейской» и, натурально, запил. Я познакомился с ним незадолго до этой славы: он был прекрасен, дрожаще обнажен, обуглен в своем дровяном московском домишке, – теперь я его навещал в новом качестве: в номере люкс, при входе висела мандельштамовская шуба (бобровая, по неясному впечатлению), из реквизита Ленского. Может, я и напел ненароком «Паду ли я…», а может, мой приятель своим остропьяным глазом художника и выходца тут же подловил мой взгляд, может, я был зря с утра трезв, но беседа наша, против последней встречи, потекла спотыкливо и вкось. Он мрачно посмотрел на кнопку и с презрением ее нажал – официантка впорхнула с такой скоростью, будто ждала под дверью. Ее подобострастно-хищные глазки наводили на мысль, сколько он ей уже переплатил. Тут же была подана икра, бульон с яйцом, и не без бутылки, конечно. Он выпил, выбросил в угол мешавшееся яйцо, захлебал бульоном и, слегка расправившись, бросил взгляд на шубу (тут я и понял, что мой взгляд не прошел мимо его сознания). «Мы, скобари! – вдруг тонким голосом театрально вскричал он (в его сложной биографии была и бытность драматическим актером). – Все “Войну и мир” написать хотим… А – не получается, не получается!!!» – закончил он на крайне пронзительной ноте. И ушел спать. Он был, безусловно, человек: шубы я у него больше не видел. Как была, мол, куплена – так была и спущена. «Жилетов много скопилось», – пожаловался он мне однажды. А имелось в виду вот что: каждый раз, выйдя из запоя, пошивал он себе дорогую тройку, а когда пропивал, то пиджак и брюки брали, а жилет – кому теперь нужен. Жилетов много скопилось… – люблю я его за эту фразу. Я не отвлекаюсь: жилет – тоже в лыку… Гоголь – тоже насчет жилетов… Было у него тяготение к жилету – об этом имеются разнообразные анекдоты, один из которых пересказан Буниным в каких-то воспоминаниях. Куда-то делись и калоши, куда жилеты и шубы – об этом свидетельствует Булгаков. Но шуба дамская – никогда у нас не умрет. Возможно, шуба и комплекс… Возможно, она в нашем ассортименте и есть роскошь и символ роскоши… Но ведь – холодно! Этого забывать не надо. Когда я ничего не боюсь, уверен в себе, своей звезде и прухе, когда все несчастья происходят только с другими, но никак не со мной, – даже тогда есть одна вещь, от которой я всегда поубавлю спесь и уверенность, – воспоминание о работе с металлом на сорокаградусном морозе… Синий иней. Этот локальный в моей биографии эпизод червоточит в моем бесстрашии.
А я и сам не люблю расплачиваться в такси… И в поезде еду, правда, не четвертым, как мама, но третьим классом. Выше третьего у меня непроизвольный спазм. И я понимаю свое социальное положение, когда расплачиваюсь: когда неловко заплатить меньше, когда не хочется заплатить больше… Роскошь, видите ли, меня не привлекает. Яхта и вилла мне не нужны («берег турецкий и Африка…»). Мне нужна отдельная комната и джинсы, без кофе я не обхожусь. Не то нужно, что – может быть, а что – следующее. Ездить первым классом давно мне доступно, но никак не перепрыгнуть третий…