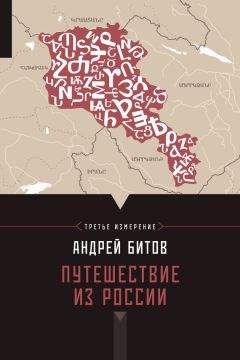А я и сам не люблю расплачиваться в такси… И в поезде еду, правда, не четвертым, как мама, но третьим классом. Выше третьего у меня непроизвольный спазм. И я понимаю свое социальное положение, когда расплачиваюсь: когда неловко заплатить меньше, когда не хочется заплатить больше… Роскошь, видите ли, меня не привлекает. Яхта и вилла мне не нужны («берег турецкий и Африка…»). Мне нужна отдельная комната и джинсы, без кофе я не обхожусь. Не то нужно, что – может быть, а что – следующее. Ездить первым классом давно мне доступно, но никак не перепрыгнуть третий…
Как-то раз оказалось, что мой друг А. едет в Ленинград в тот же день, что и я. Решили ехать вместе, а я согласился взять билеты. Я волновался, что их не будет, а он почему-то нет. Он всегда едет на вокзал прямо к поезду и берет «международный» (1-й класс). Я не мог согласиться с таким риском и поехал за билетами заранее. Отстоял очередь – билетов не было. Ни на те поезда, которыми ездят «приличные» люди («Стрела», Хельсинки…), ни в купе, ни даже в «международный»… И тут мне подфартило: я купил два билета с рук, в купе, на дополнительный поезд. Мой друг остался недоволен моей деятельностью: приедем за полчаса и купим билет, утверждал он. Я прибыл за сорок минут, он опоздал: за двадцать. Он подошел к кассе и взял два билета, как привык, – они почему-то были. Мы зашли в вагон, и поезд тронулся. Сдать билеты я не успел. Они вспотели у меня в кулаке. Так мы и поехали, на четырех билетах… Я стоял и потягивал в вагонном буфете коньячок, между двумя арабами и потертым контр-адмиралом, и привыкал к происшедшей со мною роскоши, убеждал себя, что мне это нравится. Это стоило мне усилий… Все-таки мне это не совсем нравилось. «Адмирал не обязан вызывать восхищение…» – сказал я. Мой друг повел меня в купе. И, раздеваясь, я понимал, что это он едет в международном, а не я: другие ботинки, другие носки, другое белье… Пишем мы, может, и не хуже друг друга, пили не меньше, любили… Но вот надо же! Он – раньше. Раньше меня проскочил в первый класс. Был в Париже, в Японии (в Америке, правда, еще не был, но теперь ведь – будет…). Был в странах, в которых я активно не был. Был знаком с людьми, о которых я слышал, а они обо мне, скорее всего, нет… Я здесь, конечно, пережал в признаниях: моя оценка самого себя, по-видимому, секретно от самого себя, чрезвычайно высока, и я никому не завидую… но не уверен, что вспышка комплекса – не сестричка зависти. Конечно, я провинциал, ленинградец; конечно, мысль о том, что бедность – это не отсутствие денег, а качество, мне понятна и близка; богач и в разорении тратит несравнимые средства… Но разорившийся – это не разоренный. Разориться можно несколько раз, быть разоренным кем-то, чем-то – необратимо. Нет, не быть мне богатым!
И чего я на себя наговариваю! Мне ведь нравится бедность. Я не люблю лишнего, правда, нелишнее хочу высшего качества. Домик мне нравится бедный, но там, где мне нравится; костюм мне нравится один, но по мне… Так ведь это и есть богатство, чтобы время свободно и никто не мешал!! Это же и стоит дороже всего. Оказывается, я достатка не люблю, а богатство – годится. Просто – либо богатство, либо уж нет. Паче гордости.
А ведь вагон этот мне с детства нравился! Я любил заглядывать с перрона на эти застекленные двери с медными надраенными веточками русского модерна. Мне нравилась его дореволюционность, этого вагона. И вот я еду впервые – что же я? А мне не нравится, кто в нем едет теперь. Себя я вычитаю. А. – тоже. ИХ из купе не вижу. Значит, все-таки это я себе не нравлюсь в новом социальном обличье «совбура».
Любопытно, что вагоны такого класса перестали производиться после революции. В этом была своя справедливость: некому ведь на них стало ездить. А когда стало кому, то все еще хватало старых. Хорошо, значит, их однажды сделали.
Я утвердился в своем непроизвольном зароке не ездить первым классом, но вот и еще раз пришлось… Мы с женой возвращались из южных краев. Билетов, конечно, не было, а уехать было надо. И тут, ученный первым опытом с А., я осмелился спросить в «международный» – эти были. Заранее наслаждаясь комфортом, я шел по перрону с неподъемным чемоданом, перенапрягаясь в усилии показать пустым носильщикам, что несу его как перышко. Наш вагон, конечно, был в конце перрона. Пять, четыре, три… вел я счет вагонам, которые мне предстояло еще пройти. Один… за ним не было вагона, а потом снова были. На месте нашего вагона был обрыв, провал. Это показалось мне настолько странным, что я не успел построить никаких смелых предположений, как такое может быть, и понял, лишь подойдя вплотную. Наш вагон между вагонами – все-таки был, оказался. Просто он был значительно ниже и, заслоненный, пропадал для взгляда. Это был новый, новехонький вагон, я таких еще ни разу не видел…
Обсосанный, как леденец, он сверкал, как коронка в развалившемся рту, вмиг заставив устареть соседние вагоны, которые казались еще такими годными. Испещренный никелем иноязычных надписей на всех трех языках, кроме русского, такими фирменными, новенькими буквами, что их хотелось тут же украсть, свинтить и еще куда-нибудь такое приспособить: деталь воспринималась игрушкой и не шла в сознании по назначению.
С робостью подходил я к дверям, вспотевший, с оттянутыми руками пассажир, который сейчас начнет рыться по карманам, забыв, в какое надежное место в очередной раз переложил свой билет… Чем я отличался от той бабки, которая лезет в чулок за узелком, куда это все наше достояние из нескольких купюр, железнодорожного билета и справки из сельсовета увязано? Я жалел, что не нанял носильщика.
К этим дверям следовало подкатить в ином социальном обличье. Неприветливое лицо проводницы отчасти возвращало все на свои места – я остановился на нем с благодарностью. Тут как бы снова было все понятно: эта милая, аккуратная женщина, прославившаяся, по-видимому, более чистым вагоном и более крепкой заваркой, была приставлена к уникальному СВ в виде повышения. Вручая наконец найденный билет, я попробовал польстить ей, восхитившись ее новым хозяйством, и – задел за живое (почему-то живым именуется именно больное место?..).
Нисколько на нее не обидевшись, потому что тут же понял, что сказанное ею относилось более к вагону, чем ко мне, я уже смелее вошел внутрь цивилизации. Сначала нога моя ступила на череду щеточек, а с них на пухлую ковровую дорожку – это было «ах!» и «ах» – постичь я еще не был в силах. Мы отыскали свое купе. Тут была своя сложность в дверях, ибо открыть и пройти вы не могли, а могли лишь пройти и открыть; также и разминуться с соседом в коридоре можно было, лишь вобрав себя назад в купе, как улитка в раковину, но это мы преодолели и оказались в купе, чуть стесняющиеся своим в нем пребыванием, но и чуть стесненные тоже. Все это посверкивало особым дорожным уютом, гарантированным нам уровнем дизайна. Казалось, тут продумано все до мелочей – так оно и было. Но сначала нас интересовали не мелочи, а как раз крупные вещи: два наших утяжеленных чемодана и мы сами. Мы не сразу нашли этому место.
Все здесь откидывалось, разворачивалось, складывалось, все превращалось в самое себя, минуя, кажется, именно назначение. Обеденный столик превращался в умывальник, умывальник утаивал в себе биде. Обидное это слово «биде», почти такое же, как и «кондиционер»! Когда они действуют, мы еще не умеем ими пользоваться; когда научаемся – они уже не действуют. Биде, возможно, еще не действовало, но кондиционер, точно, не действовал уже. Фанерный этот апофеоз был раскален до предела. «Ничего, – отстаивал я цивилизацию перед женой, – он включится, когда мы тронемся…»
Я не был уже в этом уверен: какие-то ничтожные намеки я уже успел уловить в новеньком совершенстве этого осмысленного пространства. Оно было слишком освоено! Усвоено и переварено – оно исчезло. Да, все здесь было осмыслено, продумано и сосчитано дотла, до слов «рациональность», «экономичность» и «эффективность». По-видимому, здесь должно было ехать столь же разумное существо средних размеров, экономное в движениях и помыслах. Если бы наше повидавшее виды супружество вдруг пробудилось бы в столь романтическом железнодорожном интиме… одно лишь это соображение окончательно развеселило меня. Интересно, как бы здесь развернулась та пресловутая шпионка!.. из того, читанного под партой рассказа? Зато здесь много чего куда можно было спрятать: стена походила на соты чрезмерным количеством разных полочек и ящичков, по идее имевших таки свое назначение.
Я не удержался положить на одну из них зубную щетку и поставить в бар бутылку пива. Далее моя фантазия иссякла. Хотя, при желании, я мог разложить, как в комоде, все содержимое чемоданов, с таким трудом уплотненных… там рубашка, здесь полотенце…
Тут меня осенило: я ощутил себя Гулливером, пересекающим границу Великании с Лилипутией – холодок равенства самому себе пробежал по спине: когда я набивал чемоданы так, чтобы у нас было меньше «мест», втайне гордясь своим «умением укладывать» перед женою, не был ли я озабочен той же мыслью, какою и конструктор вагона в отношении меня?.. Немец встретился здесь с немцем: я его узнал. Пожалуй, гениальный этот конструктор сумел втиснуть в свой вагон еще одно купе против предыдущей конструкции, причем соблюдая все саннормы, «чтобы все было», – вставил как раз то купе, из-за которого всем стало одинаково не по себе. О нет! – воскликнул я самому себе, – только немец способен довести нищету до богатства, а богатство до нищеты!.. Это был третий класс, доведенный до первого, да как! – не отличишь… но куда же подевался тогда сам первый класс? Это был диалектический вопрос. Щеточка в начале ковровой дорожки стала мне вдруг понятна: никто не стесняет вашу свободу: никто не заставляет вас вытирать ноги, вы сами «невольно», пройдя по щеточкам, свои ноги вытрете и ступите на дорожку уже поневоле чистыми ногами. Значит, экономится сразу и ковровая дорожка, а скорее – пылесос и труд проводника: один метр ковровой дорожки – на десять тысяч километров пробега, полкило пыли на сто пассажиров… Все это не шуточное, между прочим, дело, помноженное на все километры и все вагоны и деленное на всех пассажиров! Ах, хочется сложить руки, лечь к стенке и, в очередной раз, ничего не совершить полезного, а подумать понапрасну: кто это едет? и куда? и зачем?..